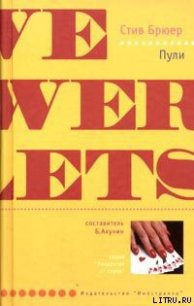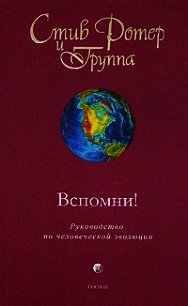Явилось в полночь море - Эриксон Стив (читать книги без .txt) 📗
И тут раздался звук с улицы.
Это была ночь на 7 мая 1968 года, или, точнее, три часа две минуты утра 7 мая. Разбудивший меня выстрел разбудил и современную эпоху. Прокатившись эхом по рю Сен-Жак до бульвара Сен-Жермен и университета в нескольких кварталах дальше, где несколько тысяч студентов захватили власть, выгнали взашей профессоров, украсили красными и черными полотнищами статуи Гюго и Пастера, подняли транспаранты с надписями «ЗАПРЕТ ЗАПРЕТАМ» и «ПОД БУЛЫЖНИКАМИ – ПЛЯЖ» и стали ждать, в то время как многотысячные, как казалось, отряды полицейских окружили университет и тоже стали ждать. Кто знает, за что они все приняли тот пистолетный выстрел. Годы спустя во всем, написанном об этих событиях, нет ни одного упоминания о том, что у кого-либо из студентов было огнестрельное оружие, а полиция предпочитала дубинки, если уж не танки… Неужели полицейские подумали, что выстрелил кто-то из студентов? Неужели студенты подумали, что выстрелил какой-то полицейский? Возможно, они приняли этот звук за удар дубинки по чьему-то телу. Возможно, все это не имеет никакого значения. Возможно, ранним утром имел значение лишь громкий хлопок, а не его источник, и этот звук расколол ожидающих на две части – и среди расколовшихся больше не могло быть выжидающих. Полицейские ринулись в атаку.
Наверху, в темном коридоре нашей квартиры, мама, в полуистерике, удерживала меня в своих объятиях, и до меня доносился запах порохового дыма через дверь их спальни, приоткрытой ровно настолько, чтобы в свете ночника было видно, как мой отец стоит, схватившись за голову. Виднелась безжизненная женская рука. На улице начался бедлам. Вырвавшись от мамы, я бросился вниз по лестнице, мама – следом за мной, а на темных рю Данте и рю Сен-Жак люди бегали и вопили, выламывали из мостовой камни и, не целясь, кидали их, переворачивали и поджигали автомобили. Полицейские молотили дубинками по чему придется. Они хлынули на тротуары, выкорчевывали каштаны. Повсюду блестело битое стекло. По сточным канавам катились канистры со слезоточивым газом. В воздухе висели дым и копоть, а вдали слышались скандирующие голоса, и я не мог разобрать слов – Metro boulot dodo, — пока не прочел это позже в газетах.
Это означало примерно следующее: метро, работа, сон — горькое упрощение всего, чем стала современная жизнь. В этот момент смысл современной эпохи размотался, как клубок. Все годы, ведущие к этому моменту, бунт следовал некой неопровержимой моральной логике, он был орудием морально обоснованных стремлений, что бы вы не думали об этих стремлениях. В минуты, предшествующие двум минутам четвертого 7 мая, студенты захватили Сорбонну вследствие несправедливостей, которые после трех минут четвертого утратили значение… К четырем минутам четвертого бунт утратил всю рациональную основу и стал просто выражением духовного хаоса, где не применимы никакие политические методы. К семи минутам четвертого я бежал в нижнем белье по улице, вместе со всеми освободившись от всякого морального содержания, а время взрывалось в смысловом вакууме. В восемь минут четвертого я обернулся и увидел, что мама стоит в дверях нашего многоквартирного дома. Она не бежала за мной, а лишь смотрела, словно фиксируя меня в памяти так крепко, насколько позволял момент. А потом просто вышла из дверей в толпу столь же спокойно, сколь безумно все вокруг куда-то неслись…
Я остановился и позвал: мама! – и шагнул к ней, но тут кто-то сшиб меня с ног. Когда я поднялся, ее уже не было.
Вот я плачу на улице. Меня окружает звук, и это не просто коллективный голос бунта – это коллективный голос эпохи, переходящий в грохот, какого я не услышу снова еще много лет… И чем громче он гремел, тем громче я пытался звать маму, пока не завизжал так, что сорвал голос. Только через семь лет я обрету его снова.
Хронология хаоса! Анархия эпохи! Невозможно, чтобы все произошло в одну лишь ту ночь, она только казалась одной ночью. Должно быть, прошли ночи и ночи, недели ночей… Мое последнее четкое воспоминание – как я стою, глядя на маму среди бушующей толпы, потом возвращаюсь к дверям нашего дома на рю Данте и жду ее возвращения, откуда-то зная, что она не вернется. А наверх подниматься я не собирался, опять туда, где пистолет на полу, дым в прихожей и отец в спальне, и поэтому пошел по бульвару Сен-Жермен в направлении того самого кафе, где много лет спустя встречусь с Энджи, а в другой стороне я видел в свете фонарей, как ехали танки и эшелонами наступали полицейские. Ночью в своих черных касках они казались безголовыми – тысячи полицейских без голов стучали дубинками, а их каски гремели под черным градом отскакивавших болтов и гаек, которые пригоршнями бросали студенты. Я шагал, скрывшись за горизонтом хаоса. Я прошел невредимый, если не считать, что промок до нитки из-за того, что на улицах прорывало водопроводные трубы и парижане с верхних этажей ведрами лили из окон воду на студентов, то ли чтобы затушить, то ли чтобы разжечь их ярость, – я не понял и не думаю, что они сами знали. Студенты-медики в забрызганных кровью белых халатах бегали взад-вперед и кричали, приказывая всем успокоиться, но успокаиваться никто не желал – этот потрясающий, абсолютный развал слишком воодушевлял, и теперь все жили только этим воодушевлением.
Все пропитал запах дыма, дымилось воодушевление, с одного конца города до другого… Но я не находил этот запах таким же неодолимым, как запах дыма у нас в прихожей в тот последний день. То был запах грядущих лет. Убийство, которое в иное время послужило бы поводом для одного из самых сенсационных судебных процессов, по чистой случайности совпало с самыми анархическими днями Франции, считая с 1871 года, если не с последних лет восемнадцатого века, и потому все последующие недели Франция провела, разгребая обломки, и едва заметила этот процесс. Мертвая девушка в постели моих родителей была студенткой из Сорбонны, где изучала литературу. За несколько часов до убийства она участвовала в протестах, и, может, ей было суждено пасть от рук разъяренных полицейских и умереть во имя анархии, а не во имя похоти. До того я однажды видел ее живую, когда был с родителями в «Дё Маго». Она сидела через два стола от нас, я до сих пор помню ее рыжие волосы, веснушки и улыбку. То, как пистолет лежал в спальне на полу рядом с рукой девушки, указывало на вероятность самоубийства – как, возможно, и было задумано. Это заключение полиция отвергла, и моего отца обвинили в убийстве второй степени. На суде, а потом в тюрьме он хранил каменное и нехарактерное для него молчание. Принуждаемый личным кодексом чести, который был, по сути, порожден нарциссизмом, но при случае проявлялся в героической форме, романтик в нем мог, я считаю, взять на себя вину мамы, которая застала девушку у него в постели и убила ее. Только много лет спустя мне пришло в голову: не исключено, что это, наоборот, мама, которой обрыдло безмолвное страдание, почувствовав себя освобожденной в парижском сумбурном флирте, могла затащить девушку к себе в постель, а мой самовлюбленный отец оказался слишком гордым, чтобы объяснять это кому-либо, а тем более полиции и газетчикам, которые все равно бы его не оправдали.
Как бы то ни было, мама сгинула. В Апокалиптическую Эру! В Тайное Тысячелетие! В последующие пару месяцев, когда страна скатывалась под откос, ближайшим выходом из Франции была Бельгия, и сначала надо было добраться туда – скорей всего, пешком: ведь машины не ездили, так как не было бензина, поезда не ходили, так как была забастовка, самолеты не летали, им было запрещено подниматься в воздух… Я больше никогда не видел ни мать, ни отца. Какое-то время перебивался по знакомым в Париже, потом меня отправили назад в Нью-Йорк, а оттуда в Новую Англию, чтобы перебиваться по знакомым там. До отъезда из Европы я не виделся с отцом в тюрьме и не общался с ним после, пока не пришла весть о его смерти – тогда мне было шестнадцать, меня отправили в коммуну в сельской части штата Нью-Йорк, и отсутствие голоса показалось мне очень кстати… Получив письмо, я прочел его один раз и поспешил в город, чтобы успеть в кино. Меня не тронула упущенная возможность примирения – допустим, что я никогда бы в нее не поверил. Допустим, я не видел, с чем примиряться. Допустим, я чудовище.