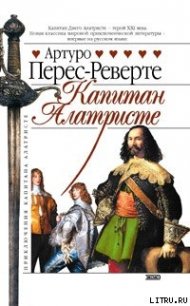Осада, или Шахматы со смертью - Перес-Реверте Артуро (книги без сокращений txt) 📗
— Есть у нашего мозга такие закоулки, — продолжает он, — куда еще не проникали ни традиционный разум, ни наука. Я ведь не утверждаю, будто вы установили незримую нечувствительную связь с душой злоумышленника, перекинули мост к его разуму… Вовсе нет. Я говорю, что неведомым мне способом вы сумели проникнуть на его территорию. В сферу его чувствований. И это позволяет вам ощущать то, что всем нам недоступно.
Они медленно идут в сторону улицы Санто-Кристо. Идут в потемках — только лунный блеск дрожит на плоских крышах и выбеленных дозорных вышках у них над головами.
— Если это все так, профессор, если мои чувствования и ощущения и вправду построили бы такой мост… то… Ну, в общем… Это значит, что я по натуре сам склонен к этому…
— К преступлению? Не думаю.
Барруль делает еще несколько шагов в молчании. Потом ворчит, отметая мнение комиссара. Или пытаясь это сделать.
— Ну, если начистоту… Не знаю! Скорей тут следует говорить о способности ощущать ужас… Те бездны, что разверзаются в душах человеческих… Да хоть в моей собственной, к примеру. Вы не раз замечали за мной — да и я сам это знаю отменно хорошо, — что за шахматной доской превращаюсь в весьма неприятного субъекта. Во мне пробуждается даже какая-то жестокость.
— Свирепость, если позволите.
— Позволяю, — слышен во мраке хохот Барруля.
В тишине слышатся шаги. Комиссар и профессор размышляют каждый о своем.
— Но от этого до засеченных насмерть девочек — дистанция немалая, — замечает Тисон.
— Ну разумеется. И вы, я надеюсь, до такого не дойдете. Но вы уже больше года одержимы этим. Да-да, я понимаю… Профессиональный интерес. И еще — хоть это и не мое дело — личный.
Комиссар с беспокойством и едва ли не с досадой вертит тростью:
— Когда-нибудь я вам расскажу…
— Не надо! — прерывает его профессор. — Не надо мне ничего рассказывать! Вы же помните пословицу: «Человек — раб того, что сказал, и властелин того, о чем промолчал». А с другой стороны, мы с вами столько лет просидели за шахматной доской, что могу считать — я вас немного знаю. Ну, так вот, хочу сказать, что столь долгая одержимость может…
— Привести к душевному расстройству?
— Возыметь известные пагубные последствия — так будет точнее. По моему разумению, охотнику его охота даром не проходит.
Они уже спустились по улице Комедиас до таверны. Из-под закрытой двери пробивается полоска света.
— Я знаю, — говорит профессор, кивая на нее, — что вы, комиссар, — почти трезвенник. Но у меня от такого количества гипотез в горле пересохло. Я бы с удовольствием его промочил. Может, поступитесь своими принципами на сей раз да за мой счет?
Тисон кивает в знак согласия и набалдашником трости стучит в дверь, пока на пороге, вытирая руки о серую блузу, не появляется хозяин. Он молод, и вид у него усталый.
— Мы уже закрылись, сеньор комиссар.
— Десять минут, дружок Не больше. И подай две мансанильи.
Они прислоняются к деревянной, почерневшей от времени стойке перед огромными темными бочками с выдержанным вином из Санлукара. В дальнем углу, в окружении свиных окороков-хамонов и бочонков с сельдями, отец хозяина ужинает и читает при свете лампы газету. Барруль поднимает стакан.
— Удачной охоты.
Тисон чокается с ним, но сам едва лишь пригубливает вино. Профессор делает два небольших глотка, после каждого кладя в рот по оливке, — хозяин подал на тарелочке четыре штучки. В конце концов, продолжает Барруль, пример с охотником неплох — ведь и он, долго выслеживая зверя, бродит там, где тот может появиться, осваивает места, куда тот ходит на водопой, ест, спит. Узнает его привычки, обследует его укрытия и лежки. И по прошествии известного времени принимается неосознанно подражать многим его привычкам и свойствам и, обживая все эти места, начинает воспринимать их как нечто свое собственное. Он осваивает их, более того — он присваивает их себе и неуклонно идет к тому, чтобы с каждым часом все больше и больше отождествлять себя с добычей, за которой гоняется.
— В самом деле, это неплохой пример, — замечает комиссар.
Барруль, который сам, кажется, размышляет над тем, что сказал только что, смотрит сперва на хозяина, перемывающего стаканы, потом на старика с газетой. И когда снова начинает говорить, понижает голос.
— Помнится, прежде, беседуя со мной на этот предмет, вы уподобляли всю историю шахматной партии… И вероятно, были правы… Наш город — шахматная доска. Некое пространство, которое — хотите вы того или нет — вам приходится делить с убийцей. Вот потому вы и видите Кадис так, как не можем видеть его мы, остальные.
Задумчиво поглядев на тарелку, профессор съедает и Тисоновы оливки.
— И хотя рано или поздно это кончится, — добавляет он, — вы никогда уже не сможете глядеть на Кадис прежними глазами.
И достает кошелек, чтобы расплатиться, но комиссар жестом останавливает его и подзывает хозяина. Запиши за мной. Они выходят на улицу и медленно идут в сторону площади Аюнтамьенто. На пустой улице гулко отстукивают их каблуки. Фонарь на углу Хуан-де-Андас светит им в спину, и по мостовой перед закрытыми дверьми лавок и портняжных мастерских движутся их длинные тени.
— Что теперь намерены предпринять, комиссар?
— Выполнять мой план, пока смогу.
— Вихри? Подсчет вероятностей?
В голосе Барруля звучит ласковая насмешка, но Тисон не обижается.
— Дай бог, чтобы удалось подсчитать, — отвечает он искренне. — Есть в городе несколько мест, которые я изучал целыми днями, неделями, месяцами и теперь знаю там каждый камешек.
— И много этих мест?
— Три. Одно не простреливается французской артиллерией. И потому — не в счет… Два других больше подходят…
— Для убийцы?
— Ну разумеется.
Комиссар, замолчав, откидывает полу своего сюртука. В свете уже далекого фонаря на поясе справа виден двуствольный «кетланд».
— На сей раз он не уйдет. И я не упущу.
Он ловит на себе внимательный и явно растерянный взгляд профессора. Тисон знает, что тот впервые за все время их долгого знакомства видит его с пистолетом.
— Вы подумали о том, что своим вмешательством можете согнать убийцу с его поля? Внести смуту в его идеи? Спутать намерения?
Теперь удивлен уже комиссар. Они достигли площади Сан-Хуан-де-Дьос, где от близкого моря веет солоноватой свежестью. На козлах коляски дремлет кучер. Слева, под двойным бельведером Пуэрта-де-Мар, освещенным со стороны суши маячным огнем, который окрашивает в желтоватые тона камни крепостной стены, сменяется караул. В полумраке белеют амуничные ремни и поблескивают штыки.
— Нет, не подумал, — бормочет комиссар.
И замолкает, осмысляя открывающуюся перспективу. Потом кивает, как бы соглашаясь.
— Вы хотите сказать, что он, быть может, потому столько времени не убивал?
— Это не исключено, — в свою очередь кивает профессор. — Не исключено, что ваши манипуляции, так сказать, с бомбами, изменив каким-то образом ту произвольную, случайную, я бы даже сказал, безыскусную бомбардировку, которую вела прежде французская артиллерия, изменили и план злодея… Сбили его с толку… И может статься, он больше не будет убивать.
Тисон слушает, мрачно склонив голову, и слегка похлопывает себя по бедру, где ощущает твердую выпуклость пистолета. И наконец отвечает:
— А может быть, принял мою игру. И придет туда, где я буду его ждать.
17
Последний свет дня меркнет, медленно отступая перед лиловатыми сумерками, что разливаются по крышам, колокольням и дозорным вышкам. Когда карета доставила Лолиту Пальму в сопровождении горничной Мари-Пас и Рикардо Мараньи на Ментидеро, окна домов, обращенных к западу еще отблескивали красным, а сейчас зарево заката на глазах гаснет над морем. Начинается такой кадисский и так любимый ею час, когда в слабом свечении моря голоса и приглушенные звуки доносятся будто из дальней дали; когда рыбаки с удочками на плече, спустившись со стен, идут по домам под еще темными уличными фонарями; когда, налюбовавшись закатом у маяка на Сан-Себастьяне, возвращаются праздные любители красивых видов; когда одна за другой в нишах начинают зажигаться лампадки, а за окнами лавок — лампы и свечи, и, окропленный этими брызгами света, гуще делается еще нерешительный и тихий полумрак, в котором нежится город ежевечерне.