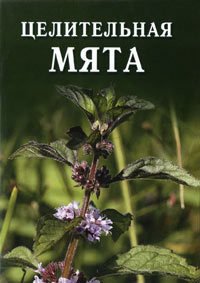Глухая Мята - Липатов Виль Владимирович (читаем книги онлайн бесплатно полностью без сокращений TXT) 📗
Они отдыхают за штабелем. От него падает на снег синяя густая тень, залегает в яминки, бархатится. Синий цвет чист и прозрачен. Обочь штабеля разрослись маленькие березки: кора у них белая, посыпанная коричневыми точками. За штабелем уютно, безветренно, сюда едва доносится визг электропил, усталое — так всегда бывает к вечеру — тарахтенье тракторов. Петр Удочкин приваливается спиной к дереву, и на его лицо, как и на снег, ложится прозрачная синяя тень. От этого светлые глаза парня кажутся голубыми. Дарья молчит, ковыряет пальцем прилипшую к рукаву телогрейки смолу.
— Вырезал, Петя? Покажи! — просит она.
— Вырезал! — заговорщически шепчет Удочкин. Посмеиваясь затаенно, недоверчиво, он достает из внутреннего кармана пиджака небольшой кусок дерева — старый березовый корень, перевитый, скрюченный.
— Гляди-ка! — загораживая его рукой, шепчет Петр.
Из тугих завитушек корня, постепенно становясь четкими, вырисовываются человеческая шея, подбородок, лицо. Дарья взглядывает на него и, словно от страха, широко открывает глаза, ойкает, затем, откинувшись, начинает навзрыд хохотгать, но потом внезапно прерывает смех, лицо у нее принимает неверующее, испуганное выражение, как будто она опасается, что увиденное в березовом корне скроется. Но опасения напрасны: надув тугие, как будто резиновые щеки, округлив сытый, ямистый подбородок, из перевитой березовины смотрит на нее Михаил Силантьев. Так и кажется, что сейчас прищелкнет языком, победно вскинет бровь и скажет: «Хорошо жил! Без водки обедать не садился!»
— Ой, ой! — стонет Дарья. — Он ведь живой, Петя!
— Ты уж не говори ему! — просит Удочкин. — Не люблю я людей обижать! Не говори, Дарья!
Она прижимает руки к груди.
— Ой, да я разве, Петя… Я разве… — пытается что-то выговорить Дарья; ей вспоминается утреннее, грустное, и хочется горячо сказать Удочкину: «Разве, я скажу кому про тебя, Петя? Ни в жизнь!» — но вместо этого Дарья спрашивает: — Ножичком резал, а, Петя?
— Ножичком и маленькой стамесочкой. Проснусь утром пораньше, когда все спят, и вырезаю. За два дня вырезал.
Удочкин поворачивает к себе деревянного Силантьева, пристально глядит на него, и с лицом Петра происходит то же самое, что с силантьевским, — надуваются щеки, обвисает подбородок. Как две капли воды похожи березовый Силантьев и живой Петр Удочкин.
— Ой, какой ты, Петя… интересный! — опять ойкает от восторга Дарья.
— Так ты не говори Силантьеву! — завертывая корень в платок и бережно укладывая в карман, еще раз напоминает Петр. — Зачем человека обижать! Я не люблю этого…
Склонив голову, Дарья молчит, думает, кажется ей, что тоненькая, но прочная ниточка понимания, тихой ласковости и приязни связывает их в этот момент, когда Петр душевно говорит о людях. Дарья тоже ласкова, привязчива к людям, прощает им несправедливость, обиды, и ей радостно, что Петр таков же. Дарье хочется сказать Петру приятное, доброе, и она говорит:
— Хороший ты, Петя!
— Ты хорошая! — отзывается он.
— Была хорошая! — тихонько вздыхает Дарья.
Глава вторая
1
Слова — белогвардейцы, кулак, обрез, пристав — для лесозаготовителей Глухой Мяты так же стары, как та сосна, что облапила ветвями барак. Виктору и Борису — двадцатилетним — слова эти говорят мало, хотя от них веет суровым ветерком романтики и похожи они на обрезки стали.
Слова — губчека, продразверстка, наган, тачанка — в представлении Виктора и Бориса не связываются с будничным чередованием дня и ночи, с обычным ходом времени, не облекаются в плоть повседневного, а вызывают у парней праздничное воспоминание: жесткий разлет чапаевской бурки, раздирающий рот крик «ура!» да клинок блестящей сабли. Ребята бессчетное количество раз смотрели «Чапаева» и свирепо завидовали — вот были времена!
Виктора и Бориса оскорбило бы, если бы кто-нибудь вздумал сказать, что то легендарное время для современников было обыкновенным временем — невозможно долгим и отчаянно трудным. Они не поверили бы, что небо тогда было таким же, как и сейчас, — плыли по нему облака, шли дожди из черных туч, и грязь была такой же — жидкой и холодной; они сочли бы за кощунство, если бы кто-нибудь серьезно утверждал, что в те времена люди спали, ели, отдыхали и томились от серых дождей чаще, чем неслись в атаку. Виктору и Борису кажется, что в те героические времена небо было другим, хлеб не таким, как сейчас, да и сами люди — другими: они не пили, не ели, совсем не спали, а только воевали и ходили в развевающихся бурках. Дымкой книжной романтики и алой мальчишеской фантазией, затянуты те времена.
Рассказы Никиты Федоровича о годах партизанщины у Виктора и Бориса вызывают досаду и разочарование — в этих рассказах люди много спят, едят, ссорятся из-за пустяков, приударяют за вдовами и мало воюют. Между боями, судя по рассказам старика, такие большие промежутки, что и не верится — была ли война?
В устах Никиты Федоровича партизаны чем-то похожи на людей из Глухой Мяты — так же, как и они, жили в лесу, спали на полу старой заимки, варили похлебку, жрали ее и только изредка и так же буднично, как лесозаготовители на работу, выходили на встречу с колчаковцами. Возвращаясь, вспоминали не о стычке, а о том, как Васька порвал о сук штаны, Сидор словчился спереть у попадьи колоду с медом, а Николай прямо из боя подался к бабе-самогонщице, живущей на выселках.
Тускнела, покрываясь плесенью обыденности, романтика тех времен в повествованиях старика, а однажды случилось и такое. Рассказывая о своем дружке — храбром и преданном Сергее Долгушине, Никита Федорович не мог найти сравнения, чтобы ребята поняли, каким был человеком Долгушин, немного подумал и сказал:
— Характером он смахивал на Григория Семенова. Такой же правильной жизни был человек! Такой же геройский!.. Ведь, как говорится, геройство не в лихости, а в правильности человека.
Ребята переглянулись, поулыбались друг другу — не приняли они сравнения Долгушина с Семеновым, а жизнь партизан от слов старика совсем уж стала походить на жизнь в Глухой Мяте.
— Как же можно сравнивать, Никита Федорович! То партизан, а то — простой бригадир, — досадливо сморщился Виктор.
— Ничего, ничего! — замерцал светленькими ресничками старик. — Очень даже можно!
Неинтересны рассказы Никиты Федоровича ребятам, неприятны, но он охотно и только при них вспоминает былое… Вот и сейчас Никита Федорович идет рядом, забегая вперед, и, суетясь оттого, что могут не услышать, рассказывает о колчаковщине. Одет старик удобно и тепло: вместо сапог у него валенки, запущенные головками в резиновые чуни, шапка не из собачины, как у всех, а из овчины, на плечах не телогрейка, а полушубок, перетянутый ремнем, и вместо хлопчатобумажных брюк — стеженые. Борода печной заслонкой лежит на груди.
В тайге — вечер. Солнце уже заслонилось сосняком, низовина деревьев темна, облита чернью, и только вершина соспы-семенника светлеет, словно в маковке, скрытая иглами, горит лампочка.
— Допрежь Колчака мы с чехами схватились! — рассказывает Никита Федорович. — Отчаянной лихости народ! Умело воевали, а насчет боеприпасу и всего прочего — здорово были снаряжены. Я после боя у них салфетку стащил, так, не поверите, три года заместо портянок навертывал. Не было ей износу, вот до чего крепкая попалась!.. — мечтательно вспоминает он. — Ну, а схватились мы с ними еще крепче! Серьезный был бой, как говорится, но мы их обротали. Хотя, скажу вам, под деревней Сухояминой от нас и от чехов самая малость осталась! Однако мы их к сосняку прижали и, как говорится, вытеснили… Богатая была деревня! Нам бабы от радости столько провианту натащили, что страсть! Особливо суп из баранины был вкусный! — сообщает он и крутит головой, облизывая губы.
Парни насмешливо улыбаются, но Никита Федорович не замечает этого. Он умиляется от благодарности к далеким женщинам, принесшим еду усталым партизанам, а оттого, что припоминается запах баранины, близкими становятся и тот день, и то серое небо, и краснощекая молодка, что накормила его, Никита Федорович не может не сказать о ней.