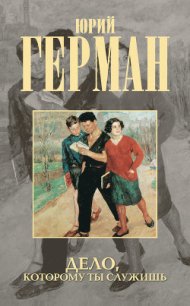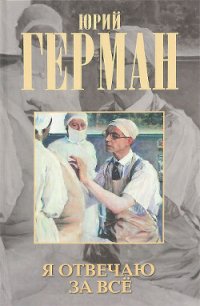Дорогой мой человек - Герман Юрий Павлович (читать книги регистрация txt) 📗
То было невеселое утро, когда «римский патриций» вынес свой не подлежащий обжалованию приговор. Умный человек – он был достаточно добр, чтобы сказать правду, и достаточно мужествен, чтобы не откладывать надолго эти горестные формулировки.
– Значит, безнадежно? – спросил Володя.
– Я не собираюсь и не имею права утешать вас, – вглядываясь в Володю холодными глазами, ответил профессор, – но не могу не напомнить, что кроме нашей с вами специальности существует еще порядочно интересного на белом свете…
И, подгибая пальцы крупных, сильных рук – то левой, то правой, – он начал перечислять:
– Невропатология, а? Микробиология? Патологическая анатомия, как? Кстати, я знаю нейрохирурга, с которым приключилась история вроде вашей, но он натренировал себя так, что левой рукой делает спинномозговую пункцию, а именно с левой у вас все обстоит сравнительно благополучно. Дальше – рентгенология, недурная и многообещающая деятельность, требующая талантливых людей…
Устименко почти не слушал, смотрел в сторону.
– Я, конечно, разделяю, коллега, ваше состояние, но не могу не рассказать вам к случаю один эпизод, – продолжал «римский патриций», может быть, вы обратите на него внимание. Известнейший наш хирург, мой старый знакомый и, можно сказать, приятель, потерял незадолго до войны зрение… Рейнберг – вот как звать этого человека. Так вот, представьте-ка себе, человечина этот с началом войны почел своим нравственным долгом присутствовать на всех операциях, производимых в бывшей своей клинике, и, не имея возможности оперировать, своим драгоценным опытом и талантом очень много принес самой насущной пользы, только лишь советуя в затруднительных случаях. Так и по сей день просиживает многие часы мой старый товарищ в операционной, и его докторам за ним – за слепым – как за каменной стеной, понимаете ли?
– Все это, разумеется, очень трогательно, – глядя в глаза академику, сурово и жестко ответил Устименко, – и все это, конечно, должно поддержать мой дух. Но боли, товарищ генерал, невыносимые боли, их-то тоже нельзя не учитывать! Неврома, раньше я о ней только читал, а теперь знаю ее по себе. Как сказано в басне – ты все пела, так поди же попляши…
– Что же вам, собственно, тогда угодно? – спросил академик и, вынув из портсигара толстую папиросу, постучал ее мундштуком по золотой монограмме. – Чем я могу быть вам полезен?
– Мне нужно ампутировать правую кисть.
Академик сильно затянулся, разогнал дым белой ладонью и ответил не торопясь:
– Хорошо, мы тут обдумаем весь вопрос в целом. Обдумаем, посоветуемся, еще с вами побеседуем не раз…
А однажды вечером ему принесли телеграмму:
«Встречайте обязательно пятницу одиннадцатого московский пассажирский самолет».
«Вера? – неприязненно и беспокойно подумал он. – Но тогда почему встречайте, а не встречай?»
В пятницу одиннадцатого по приказанию самого начальника госпиталя ему помогли одеться и проводили в старенькую «эмку», в которой разъезжало госпитальное начальство по Стародольску.
«Встречайте, – думал Володя. – Что за черт?»
Самолет был старенький, обшарпанный, но пилот посадил его с шиком, словно это было последнее достижение авиационной техники. И трап на тихом стародольском аэродроме тоже подволокли к машине с элегантной быстротой, словно на Внуковском аэродроме.
Дверца открылась, на трап шагнул генерал. И тут же Володя понял, что это не генерал, а Ашхен Ованесовна Оганян – собственной персоной, в парадном кителе, при всех своих орденах и медалях, в погонах, сияющих серебром, в фуражке, чертом насаженной на голову, на седые кудри, да и не на кудри даже, а на некие загогулины, колеблемые осенним ветром…
Кроме плаща и старой полевой сумки, у нее ничего не было с собой, и солдату-шоферу она велела ехать прямо в «коммерческий ресторан», но в хороший, в самый лучший, как в Москве. Только потом старуха обернулась к Володе, усатая верхняя губа ее приподнялась, обнажив крепкие еще, молодые зубы, и Ашхен спросила:
– Бьюсь об заклад, что вы подумали обо мне, Володечка, когда я прилетела, вот такими словами: баба-Яга примчалась на помеле. Так?
– Нет, – сказал Устименко, – но я подумал, что вы генерал.
– Самец?
– Почему самец? Генерал.
– Это Зиночка очень женственная, а я огрубела, – произнесла Ашхен. – И знаете что, Володечка? Сегодня я буду вести себя в вашем городе, как грубый военный человек, который приехал на побывку. Это – ресторан? С водкой?
Она взглянула на часы, поправила пенсне, приказала водителю приехать за ними ровно в четырнадцать ноль-ноль и тяжело выползла из «эмки».
Ресторан «Ветерок» только что открылся. Швырнув фуражку и плащ с сумкой изумленному ее повадками гардеробщику, старуха велела вызвать директора и заняла самый лучший столик между фикусом, пальмой и окном.
– Вы – директор?
Лысый человек в роговых очках, похожий на протестантского священника, поклонился.
– Все самое лучшее, что у вас имеется, – сказала старуха. – Коньяк, конечно, армянский. Я прокучу бешеные деньги, буду мазать лица официантов горчицей и разобью трюмо. У вас есть хорошее, дорогое трюмо?
– Найдется для хорошего гостя, – ласково улыбаясь, сказал директор. Все найдется.
– А музыка где?
– Рано еще, мадам.
– Я не мадам, гражданин директор. Мы всех мадам в свое время пустили к генералу Духонину, или, чтобы вам было понятно, – налево. Я – полковник Военно-Морского Флота СССР. И чтобы шампанское было сухое и как следует замороженное.
Директор попятился, Ашхен угостила Володю папиросой «Герцеговина-Флор», затянулась и сказала басом:
– Если бы я была мужчиной, Володечка, какие бы кошмарные кутежи я устраивала. И не было бы от меня пощады слабому полу.
Вгляделась в него внимательно и вдруг спросила:
– Итак? Мы погружены сами в себя? Мы даже не интересуемся сводками Совинформбюро? Мы на письмо не отвечаем, нам две старые старухи пишут, а мы так расхамели, так нянчимся со своими страданиями, что продиктовать несколько слов не можем. Мы – особенный, да?
– Если вы для того сюда меня позвали… – начал было Володя, но Ашхен так стукнула кулаком по столу, что старичок официант, расставлявший рюмки, даже отскочил.
– Сидите и слушайте, – сверкнув на него своими выпуклыми глазами, посоветовала Оганян. – И тихо сидите, иначе я очень рассержусь, я и так уже достаточно сердитая, а если еще рассержусь очень, вам будет плохо, подполковник. Наливайте же, – крикнула она официанту, – вы же видите, это несчастный инвалид войны, которому нужно поскорее залить горе вином, иначе он будет ругаться дурными словами и обижать прохожих. Наливайте скорее и поклонитесь ему низко, дедушка, вы перед ним виноваты, потому что у вас и ноги и руки в порядке…
Устименко длинно вздохнул: он все-таки отвык от бабы-Яги и забыл ее манеру применять всегда сильнодействующие средства.
– За мое здоровье, – сказала Ашхен. – Я – старая бабка-старуха, выпейте за меня и слушайте…
Володя опрокинул рюмку и заметил взгляд Ашхен, брошенный на его пальцы.
– Ничего, – усмехнулся он, – рюмку удерживаю.
– А я и не волнуюсь. Слушайте: в тридцать втором году летом тяжело больному Оппелю врачи предложили срочно извлечь глаз, пораженный раком. Оппель подумал несколько дней, потом пришел к себе в клинику, завязал больной глаз платком и, как обычно, приступил к очередной операции. Только абсолютно убедившись в том, что оперировать можно и с одним глазом, Оппель согласился на собственную операцию. Право остаться хирургом было для него дороже самой жизни.
– И правильно, – сказал Володя. – Разве я спорю с этим? Если вы решили меня немножко повоспитать, Ашхен Ованесовна, то примерчик неудачный…
Глаза его смотрели зло и насмешливо, лохматые ресницы вздрагивали.
– Оппель именно в эти дни написал, – неуверенно продолжила свою историю Ашхен, – написал, знаете, эти знаменитые слова…
– Какие?
– Разве вы не слышали? – беспомощно спросила она.