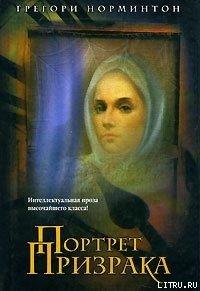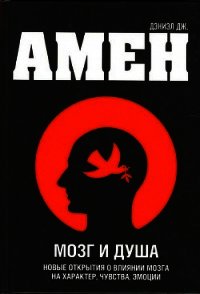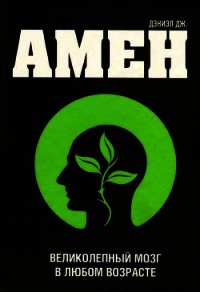Чудеса и диковины - Норминтон Грегори (книги без сокращений .txt) 📗
– Чтобы сотворить невероятную картину и убедить зрителя в ее правдоподобии, – сказал Арчимбольдо, – скопируй ее составляющие с Природы. Жизнь в картину вдыхают детали. Если ты слишком удалишься от Природы, твоя кисть никого не удивит. Даже чудовища сделаны из плоти.
Как бы в доказательство своих слов Арчимбольдо снял со стены несколько маленьких рисунков – без сомнения, копий с оригиналов большего размера. Это были «Времена года», символизирующие этапы человеческой жизни. Розовощекая юность, полностью составленная из весенних цветов, соседствовала со своей противоположностью и погибелью, суровой Зимой – искореженным деревом с корнями вместо бороды и уродливыми грибными губами. Лето было мужчиной в расцвете сил, смеющейся мозаикой из фруктов. Он безразлично смотрел на Осень, чья пшеничная борода и вакхическая корона уже были готовы к сбору урожая и к тому, что бывает после.
– Человечество, мальчик мой, это лишь часть Природы. И Природа есть часть Человека. Ведь ты насыщаешь свое тело фруктами? Получается, что ты сам сделан из них. – Арчимбольдо с хрустом укусил яблоко. – Motif fur humus, – продолжил он, прожевав и проглотив сочную мякоть. – Прими во внимание жизненные соки. Siccus, calidus, humida, frigidia – Сухость, Жар, Влага, Холод. Объединив все четыре в одно, что ты получишь? Универсального Человека.
Художник продолжал философствовать, а я погрузился в созерцание его рисунков. Потом прервал его глупым вопросом: почему он работает в темноте, в занавешенной комнате? Глупым – потому что с первого взгляда было ясно, что картины Арчимбольдо выполнены при искусственном освещении, и именно это придавало им герметическую таинственность, мрачный и гипнотический шарм.
– Почему в темноте? Мне так нравится. Заставляет сосредоточиться. – Арчимбольдо жевал яблоко, наблюдая с довольным видом, как я копаюсь в его фантазиях. Что до меня, то я себя чувствовал как человек, который долго блуждал по пустыне и вдруг вышел к морю: вот она, вожделенная вода, но ее нельзя пить. Вот оно, к чему я так стремился, но ему никогда не бывать моим. – Эта картина – еще и портрет моего покровителя, такого же источника изобилия для своих подданных, как Вертумн – для всего человечества. Ты ведь понятия не имеешь, о чем я, верно? Прости меня. Я стар, я забыл, что мир – не моя фантазия. Давай я расскажу тебе про императора…
Так я узнал про Рудольфа Габсбурга. Это был монолог, который, без сомнения, шлифовался в течение многих лет и был полон витиеватых оборотов. Арчимбольдо описывал, как благочестивый юноша, уже тогда отличавшийся своим знаменитым подбородком, привез к венскому двору испанские манеры. Новый монарх удивлял придворных множеством причуд. Над его короной витали воспоминания о богатствах, увиденных в Эскориале: чудеса и диковины, которые Филипп Испанский собирал в качестве отдохновения и убежища от дворцовых бурь. Есть короли, которые страждут преходящей власти и готовы пролить ради этого море крови и грязи. Амбиции императора Рудольфа были значительно утонченнее. Он хотел собрать величайшую сокровищницу христианского мира. Для этого он окружил себя астрологами, художниками и умельцами, великими талантами, к примеру… (я забыл имена, для меня они были пустым звуком). Арчимболь-до был фаворитом почившего императора Максимилиана; теперь, вместе с его преемником Рудольфом, он переехал к новому престолу, в Прагу. Арчимбольдо выкатывал глаза, описывая роскошь города на Влтаве, пражские шпили и башни, грандиозный замок, залы и галереи, выстроенные новым богемским королем.
– Знаешь, у него есть лев. Он рычит ровно в полдень. Говорят, что имперская власть связана с этим царственным зверем. – Верил ли в это сам Арчимбольдо? Он готов был поверить во что угодно, если это касается императора, владевшего статуей Дафны из красного коралла, монарха, который по праву гордился жемчужинами собранной им коллекции: рогом единорога и корнем мандрагоры в форме распятого Христа – даже в мелочах, вплоть до агонии на крошечном лице. – Сладкими плодами моих трудов я развлекал двух императоров, одного за другим. Маски, подвески. Зарисовки диковинных зверей. В благодарность Рудольф подтвердил благородство моей фамилии. Когда я возвращался в Милан, мне сделали подарок, тысячу пятьсот пятьдесят флоринов. – Арчимбольдо сделал передышку, чтобы убедиться в том, что его слова произвели на меня должное впечатление.
– А почему, – спросил я, – вы уехали из Праги?
– А почему лосось возвращается в ручей, где он вылупился из икринки? Я миланец, как и ты. Я хочу умереть в родном городе. И завершить жизненный круг. – Старик наклонился вперед. Он взял со стола кусок пергамента с цветным изображением румяной груши. По тому, как он разглядывал его при свете своей лампы, я почувствовал, что Вертумн будет его последним творением.
В последующие месяцы и годы я при всяком удобном случае избавлял отца от своего скромного общества и навещал затемненное палаццо художника. Между нами крепли узы дружбы. Такая привязанность возникает иногда между рано повзрослевшим ребенком и взрослым, который сохранил юношеский задор. Когда император в Праге получил свой портрет, он пожаловал Арчимбольдо титул пфальцграфа. Старик просто парил над землей. Раздувая ноздри, он вдыхал аромат, исходивший от грамоты о его посвящении, и ласкал костлявыми пальцами новый шелковый воротник. Сейчас я гадаю, не тогда ли я принял решение попытать счастья в далекой и волшебной стране Богемии? Может быть, эта мысль уже тогда залетела в далекие темные коридоры моей души и зрела там в ожидании своего часа? Филигранные истории про императоров, рассказанные Арчимбольдо, разожгли мое воображение. Окруженный несчастьями и лишениями, я ждал от жизни предполагаемых щедрот. Как можно было смириться с жалкой жизнью невольника, привязанного к колесу, словно тягловая скотина, слушая, как Арчимбольдо описывал мне забавы, созданные им для его покровителей? Я не решился поведать ему, что и сам был игрушкой аристократов – в определенном смысле. Вместо этого я придерживался легенды об одиноком и не ценимом никем таланте, лелеять который Арчимбольдо считал своей священной обязанностью.
Как-то ясным утром, когда солнце, пробиваясь сквозь шторы, придавало мастерской туманный, подводный вид, старый граф с многозначительным видом усадил меня на стул. Затем он поднял крышку длинного сундука и, опершись одной рукой о колено, нашарил внутри какой-то квадратный предмет, завернутый в зеленый бархат. Вставая, он охнул. В колене явственно хрустнул сустав. Содержимое свертка оказалось аккуратной кожаной папкой. Арчимбольдо развязал тесемки и почтительно извлек из нее связку старых пергаментов. Каждый свиток был испещрен надписями, иногда – понятными, иногда – сделанными в зеркальном отражении. Здесь были схемы укреплений, увиденные с небес, крабовидные осадные машины и гротескные головы, бескровно отделенные от тела. Я видел парящие пирамиды; ужасные откровения бурь и наводнений; распустившиеся лепестки недостроенного собора. Меня поразила сфера – раскрытая, как фрукт, рукой неведомого анатома, – содержавшая скорченный зародыш. Моя душа содрогалась при виде сокрытых вещей, увиденных Божьим оком, но мне было жалко безволосого ребенка, который все еще ютился в своем оскверненном убежище – материнской утробе.
– Записки Леонардо да Винчи, – прошептал Арчимбольдо. Он рассказал, что его отец знал ученика Леонардо, художника Бернардино Луини; сын Луини одолжил Арчимбольдо записи, и тот скопировал их, поставив на стол зеркало. – Ум Леонардо был почти божественно всеохватным. Все творения Человека ожидали его в мире Форм. Ему нужно было лишь заглянуть в этот сумрак и ухватить их.
Так началось мое посвящение в тайны Искусства. Арчимбольдо придавал большое значение моральным аспектам.
– Не ищи знаний по ложным причинам. Ни насилие – без надлежащего ограничения, – ни тщеславное хвастовство до добра не доведут. Книги в руках дурака бесполезны, а если неправильно их понять, они станут препятствием для здравого смысла. – Восхваляя опыт, старик вторил Леонардо. – Каков бы ни был авторитет учителя, не верь ему на слово, если он говорит одно, а твои чувства подсказывают другое. – После Арчимбольдо я никогда больше не буду так самозабвенно отдаваться выполнению заданного учителем. Надувая щеки от усердия, я познавал законы перспективы и перерисовывал анатомические этюды Леонардо. Я учился искусству светотени – и в масле, и в угле, – пока тени и свет не начали сливаться друг с другом подобно дыму, без границ и штрихов. Арчимбольдо сидел рядом со мной (его постоянно мучил хриплый кашель, с глухим рокотом поднимавшийся из легких) и из-за моего плеча исправлял контур рисунка или растирал штриховку сухим перепачканным пальцем.