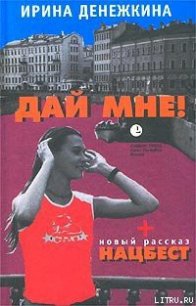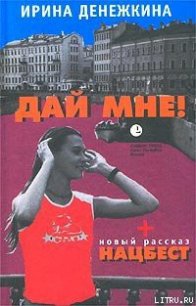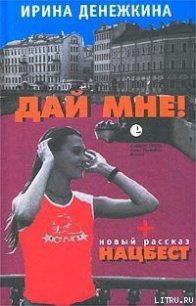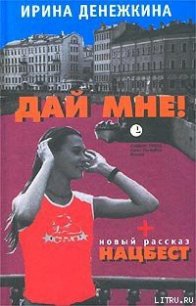Дай мне! (сборник) (СИ) - Денежкина Ирина (библиотека электронных книг txt, fb2) 📗
Андрей поставил жирный крест сам и я превратилась в ту самую больную собаку. Ползала грустная, Волкова всё недоумевала, мол, какого хера? Он у меня в мозгах?
Андрей сидел в мозгах долго, почти год. За это время Сахаров успел найти себе девушку и бросить её. Ходил выпятив тощенькую грудь. Я подозревала, что в этой груди всё ещё шевелится любовь ко мне, но вслух не говорила. Сахаров был патологически обидчив. Ушёл с головой в учёбу, подтягивая штаны с выцветшим парашютным задом. Иногда смотрел умильно. Честно говоря, я задумывалась, может вернуться? Отдохнуть рядом с ним… Всё равно никого не прибивает к берегу. Андрей – гад. А больше никого в мире нет…
Ляпа приплыл в конце эпопеи с Андреем. Писал всякие смешные письма, мол, «целую крепко, твоя Репка». Репка моя. Моя ли?
И вот теперь – Нигер. Я в дауне. Я думала, что таких уже не делают.
Оказалось, делают.
О моих прошлых пассиях нигер отзывается примерно так: «мудень», «лох», «чмо какое–то». Мне становится непонятно, чего ж я тратила столько времени на всяких Андреев? Сахаров этот – бр–р–р… Яшников – вообще глист какой–то. Встретили тут его на ВМЦ. Яшников подбежал со мной здороваться, тряся кудрями. Нигер глядел на него сверху вниз презрительным взглядом. Чуть ли не плюнул.
Знакомство с Ляпой произошло у меня дома посредством компьютера, а точнее «винампа». Ляпа – это панк–рок, а не рэп. Но даже, если бы Нигер любил панк–рок, он никогда бы не стал слушать песни «этого твоего «мужа“, чё это за фотки его тут?». Мальчик ревнует. Фотка одна. Ляпа на ней в «Полигоне» с высунутым языком. Концертный момент.
– Даже если бы ты мне включила Земфиру, я бы и то сказал, что она лучше, чем эта… Ляпа.
Ну всё ясно…
Прошло полгода.
Я не вижу Деню. Где он? Неизвестно. Может, поехал в Чечню. Может, у него такой плотный рабочий график. Может… Волкова говорит: «Женился!» Да хотя бы.
Нигер – моя любовь. Я становлюсь жутко неинтересной собеседницей, когда дело касается Нигера.
Несчастье – это да, это всем любопытно в обсосанных подробностях. Счастье банально. Оно у всех одинаковое. Говорить о нём бесполезно: во–первых, не поймут, во–вторых, скучно.
Волкова отрастила волосы и похудела на три кило. Теперь она подъезжает к дому на джипах, вся из себя высокомерная и разодетая. Соседки ахают, завидуют, за глаза обзывают «блядь», а в глаза слащаво–приветливы. Соседки не такие красивые, как Волкова. Это понятно. Волкова зазналась. Но я–то знаю, что она Кашалотик…
Ляпу эти полгода я не видела.
И вот – весна. Всё цветёт и пахнет.
Я поехала на Юго–Запад к Нигеру и в метро встретила «мужа». Он не изменился – всё такой же по–щенячьи хорошенький. Глаза дурашливо блестят, губы виновато и неудержимо растягиваются в улыбку. Плечи подняты – может, удерживают рюкзак, а может, от смущения. Прохладно, но шапки нет. Торчат рожки.
– Кисонька! – громко обрадовался он, блуждая глазами где–то сбоку от меня…
Сидели опять на той же кухне. В комнате бесилась остальная группа. Сэм и Крэз отрывали друг другу головы, а Витя играл в GTA2. Жутко матерился. Видите ли, его менты каждые пять минут ловят. Плохая, мол, игра.
Все бухие. После репетиции. Ляпа пока не очень.
– Ты что будешь? Кофе?
– Давай пиво, морда…
Он обрадовался, с оглушительным хлопком открыл мне «Петровское».
Я сидела и смотрела на своего мужа и всё думала: дурацкий панк. Смешной. Дурной. И смотри–ка ты – муж. Да ещё и мой. Развестись что ли?
– Ляпа, давай уже короче разведёмся! – пошутила я неуклюже.
– Зачем? – встрепенулся он. – Я тебе надоел?
«Надоел!» Не виделись полгода…
– Ты безразличный, – быстро ответила я и торопливо отпила пиво.
Ляпины глаза приобрели осмысленное выражение. Глаза смотрели не в сторону, а прямо на меня. Он не понял. Я шучу? Да вроде без обычных приколов. Тогда что? Не понял, не понял, не понял. Потом понял.
– Я просто не думал, что у тебя ко мне какой–то интерес может быть…
У меня внутренне челюсть – хрясть на пол. Он «не думал»!!! Ну каково?
– Почему это? – заинтересовалась я.
– Потому что я маленький, глупый, уродливый панк.
Мне стало смешно. Так откровенно напрашиваться на комплименты мог только Ляпа. Ляпа–Шляпа. Простой и сложный в одном флаконе. Он лёгкий и весёлый, но что у него внутри? Только «Дай!… мне! Дай!… мне! Дай!… мне немного солнца»? Надо же – «уродливый панк».
– Я на комплимент не напрашиваюсь, – ответил он, понимая, что переборщил малость. – Может, я, конечно, утрирую, но в общих чертах ведь так и есть.
Пришёл Сэм, шумно порылся в холодильнике, ухмыльнулся равнодушно, глядя на меня и на вытаращенные Ляпины глаза. Ушёл.
Ляпа встал за ним, я думала, он уйдёт за Сэмом. И хорошо, меня вообще–то Нигер ждёт. Но Ляпа закрыл дверь в кухне и повернулся ко мне.
– Я люблю тебя, киска.
– Что?
Продираясь через смущение, как через колючую проволоку, сбросив дурашливое выражение, от чего лицо его стало некрасиво–напряжённым, Ляпа приблизился ко мне, тяжело дыша.
– Э…э… Ляпа…
– Хватит уже всякой фигни, – сказал он серьёзно.
И его язык оказался у меня во рту.
Валерочка
для гнома
…Лица у всех были радостные, промытые, оттенённые чистыми ни разу не надетыми за смену рубашками. Ребята пихались локтями, смеялись через край от возникшей вдруг всеобщей привязанности. Олеся смотрела на все эти красивые лица, искала глазами что–то, но не могла уловить, что. Вроде бы всё как надо. Наверное, на вокзале всегда появляется чувство ожидания – неважно чего.
Вот Кудрявость – смеётся, тряся кудрями. Дынин – обнимается с Кларой и Пузатым и орёт на весь перрон какую–то песню. Олеся прислушалась – «…А на дереве болтается наш дворник Степан, будет холодно ему – мы сошьём ему саван…» Мдя…
Вдруг среди шумных и радостных лиц Олеся увидела – сначала полуоткрытые губы ромбиком с заячьими зубами, потом солнечный сноп упёрся в очки, прошёл сквозь них не отражаясь, чёрный мокрый ёжик дыбился на маленькой голове.
Валерочка протиснулся к ней – потный и взъерошенный, молча взял за рукав.
Лидия тогда сказала:
– Посмотрите: Валерочка подстригся, не то, что некоторые! Сразу заметна аккуратность!
«Вале–е–ерочка,» – прокатилось по рядам. Ребята выглядывали из шеренг, одни хихикали добродушно, другие не совсем, но было ясно: теперь он для них «Валерочка» навечно.
В поезд садились более–менее организованно, Лидия пересчитывала по головам, мамы утирали слёзы и местами тушь, папы жали руки, хлопали по спине, желали «не подкачать».
Малышня прилипла к окнам, сдвинув бровки и крича: «Мама, пока!» Старшие прогуливались по дорожкам из полотенец, присматривались друг к другу, торопили время. Стасик Галкин кривил губы и тихо плакал, и уже не хотел ни в какой лагерь, и на загадочное «море» было ему наплевать.
Лидия незаметно взяла его за руку, подвела к окну, шепнула: «Будем писать маме письма. Привезём ей ракушку красивую, ох как она обрадуется!». Стас поскрёб нос и неуверенно махнул в сторону перрона. Согласился.
Колёса лязгнули, покатились, уплыли назад родители, перрон, станция. Дети всё ещё толклись в коридоре, глядели «в последний раз» на город, потом появились кусты и деревья – и так и пошло: кусты и деревья, кусты и деревья. Разошлись по купе.
Олеся переоделась, запихала сумку под лавку. Вежливо поулыбалась трём девочкам на соседних полках. Те тоже вежливо улыбались, смотрели с испугом. Потом перезнакомились. Олеся вышла из купе, прислонилась к поручню. Перед глазами побежали деревья, то падая вниз, то взлетая вверх. Солнце мигало сквозь листья. Стасик Галкин стоял у соседнего окна и глядел в штору.
Колёса мерно стучали, пахло нагретыми рельсами и китайской лапшой. Зашуршала дверь купе.
Стасик обернулся. Олеся услышала:
«Я уебу любое чмо, любую шавку
поставлю раком всех любителей иглы и травки.