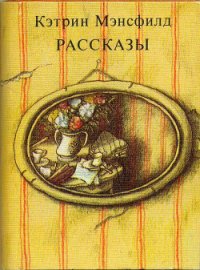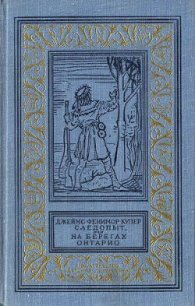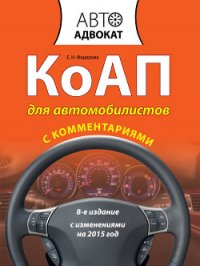Я исповедуюсь - Кабре Жауме (книги .TXT) 📗
Он указал рукой на девушку со стрижкой и сказал: да, пожалуйста.
– К вашему стыду, ваше имя навсегда останется в числе тех, кто внес вклад в ужас, опозоривший человечество. – Это было сказано по-английски с манчестерским акцентом, казенным тоном; говорящий не заботился о том, понимает ли его собеседник.
Он ткнул в документ грязным пальцем. Будден поднял брови.
– Вам нужно подписать здесь, – потрудился объяснить сержант на ломаном немецком. И постучал грязным пальцем по тому месту, где следовало поставить подпись.
Будден повиновался и протянул документ обратно.
– Вы свободны.
Свободен. Выйдя из тюрьмы, он снова бежал – и снова без определенной цели. Тем не менее он задержался в обледеневшей деревушке на берегу Балтийского моря, укрывшейся под стенами скромного картезианского монастыря, и провел зиму, глядя на огонь в очаге молчаливого дома, где его приютили, и исполняя для прокормления работу носильщика в том же доме и в деревушке. Он мало говорил, не желая, чтобы в нем признали образованного человека, и усердствовал, чтобы его руки пианиста и хирурга скорее загрубели. С приютившей его семейной парой он также разговаривал мало, потому что супруги были погружены в скорбь по своему единственному сыну Ойгену, погибшему на русском фронте во время проклятой войны этого проклятого Гитлера. Зима оказалась длинной для Буддена. Его поселили в комнату погибшего сына в обмен на любую работу, какую он мог исполнять, – и он задержался там на два года с лишним, не сказав ни одного слова сверх необходимого, как будто был одним из монахов соседнего монастыря. Он бродил в одиночестве вдоль берега, подставляя лицо хлесткому холодному ветру, налетавшему с Финского залива; плакал, когда его никто не видел; и удерживал мучившие его образы – было бы несправедливо дать им исчезнуть, ведь в памяти заключено покаяние. В конце этой зимы, продлившейся два года, он направился в Узедомский [327] картезианский монастырь и на коленях попросил брата-привратника об исповеди. После некоторых колебаний в ответ на неслыханную просьбу ему был назначен отец исповедник – старый монах с серым взглядом, привыкший к молчанию; в редких случаях, когда он произносил больше трех слов подряд, в его речи угадывался легкий литовский акцент. С того момента, как колокол возвестил наступление третьего часа, Будден не упустил ничего – он говорил монотонно, глядя в землю. Он чувствовал затылком взгляд потрясенного монаха, который перебил его только один раз, в самом начале.
– Ты католик, сын мой? – спросил он.
Следующие четыре часа исповеди монах не издал ни звука. В какой-то момент Буддену показалось, что тот беззвучно плачет. Когда прозвучал колокол, созывавший монахов на вечернюю молитву, исповедник дрожащим голосом сказал: ego te absolvo a peccatis tuis – и перекрестил его дрожащей рукой, бормоча конец разрешительной формулы. И воцарилась тишина, в которой еще висел отзвук колокола, – но кающийся не сдвинулся с места.
– А епитимья, отец?
– Иди… – Монах не отважился напрасно произнести имени Господа; он откашлялся, чтобы скрыть неловкость, и продолжил: – Нет такой епитимьи, которая могла бы… Могла бы… Кайся, кайся, сын мой. Кайся… Знаешь, что я думаю в глубине души?
Будден поднял голову – со скорбью, но и с удивлением. Исповедник благостно склонил голову набок и пристально смотрел на трещину в древесине.
– Что вы думаете, святой отец?
Будден также взглянул на трещину, едва видную, поскольку дневной свет постепенно угасал. Он перевел взгляд на монаха и ужаснулся. Отец! – позвал он. Отец! И ему показалось, что он – тот литовский мальчик, который стонет и повторяет «Teve, Teve!» на своей койке в глубине барака. Исповедник был мертв и не мог помочь ему, сколько бы он ни звал. И Будден стал молиться, впервые за много лет, на ходу придумывая слова, умоляя о помощи, которой он не заслуживал.
– Лично я, когда читаю стихотворение или слышу песню… ни о чем таком не думаю, правда.
Адриа был счастлив, что девушка не спросила, будет ли это на экзамене. У него даже блеснули глаза.
– Хорошо. А о чем вы думаете?
– Ни о чем.
Послышались смешки. Девушка обернулась, задетая смехом, пытаясь понять, кто смеялся.
– Тихо, – сказал Адриа. Он ободряюще взглянул на девушку со стрижкой.
– Ну… – сказала она. – Стихи, песни… они не заставляют меня думать. Они заставляют меня чувствовать что-то такое, что я не могу выразить.
И тише:
– Иногда… Иногда они заставляют меня плакать, – закончила она совсем тихо.
На этот раз никто не засмеялся. Три или четыре секунды последовавшего за этим молчания были самым важным моментом за весь курс. Все испортил университетский надзиратель, который открыл дверь и сказал, что пора заканчивать.
– В искусстве – личное спасение, но в нем не может быть спасения для всего человечества, – ответил Адриа Ардевол надзирателю, который закрыл дверь, смутившись от слов этого ненормального профессора.
– В искусстве – личное спасение, но в нем не может быть спасения для всего человечества, – повторил он Саре в столовой за завтраком, сидя перед пейзажем Уржеля, в котором казалось, тоже пробуждается новый день.
– Так и есть, потому что человечество безнадежно.
– Не грусти, дорогая.
– Я не могу не грустить.
– Почему?
– Потому что мне кажется, что…
Тишина. Она сделала глоток чая. В дверь позвонили, и Адриа пошел открывать.
– Осторожно, отойдите! – Катерина вошла и сразу побежала в ванную с зонтом, с которого стекали струи воды.
– Там дождь?
– Да вы бы и бури не заметили, – ответила та из ванной.
– Вы преувеличиваете.
– Преувеличиваю? Вы бы в море воды не нашли!
Я вернулся в столовую. Сара уже доедала. Адриа положил на ее руку свою, чтобы она не вставала.
– Почему ты не можешь не грустить?
Сара молчала. Она вытерла губы салфеткой в бело-голубую клетку и затем аккуратно сложила ее. Я стоял и ждал, слушая привычное шуршание Катерины по хозяйству в другом конце квартиры.
– Потому что мне кажется, что, если я перестану грустить, я… погрешу против памяти своих. Дяди. И других… У меня много покойников.
Я сел, не отпуская ее руки.
– Я люблю тебя, – сказал я. И ты посмотрела на меня, печальная, сосредоточенная и красивая. – Давай родим ребенка, – осмелился я наконец.
Ты отрицательно покачала головой, словно не решаясь сказать этого вслух.
– Почему нет?
Ты подняла брови и сказала: ох.
– Это была бы жизнь в противопоставлении смерти, тебе не кажется?
– Я не чувствую в себе сил. – Ты отрицательно качала головой, говоря: нет, нет, нет, нет, нет.
Я долго спрашивал себя, почему столько «нет» против ребенка. Среди того, что глубоко меня печалит, – то, что я не видел, как растет девочка, похожая на тебя, которой никто никогда не скажет: стой спокойно, а то я оторву тебе нос, – потому что ей никогда не придется испуганно мять в руках бело-голубую клетчатую салфетку. Или мальчик, которому не придется в ужасе умолять: Teve, Teve!
После доставшейся столь дорогой ценой исповеди на ледяном острове Узедом Будден покинул свой стул у очага – оставил позади замерзшую деревню на балтийском берегу, украв у доверчивых хозяев удостоверение на имя дорогого им Ойгена Мюсса, чтобы избежать проблем с оккупационными войсками союзников, и бежал в третий раз, словно боясь, что бедный монах-исповедник из могилы обвинит его перед своими братьями в каком-нибудь из совершенных преступлений. В глубине души он боялся не картезианцев и не их молчания. Он не боялся неналоженной епитимьи; он не боялся смерти; он не заслуживал самоубийства, потому что знал, что должен исправить причиненное им зло. Он прекрасно знал, что заслужил вечные муки, и не чувствовал себя вправе избегать их. Но ему надо было еще кое-что сделать, прежде чем отправиться в ад. «Ты должен подумать, сын мой, – сказал ему старый монах перед разрешением и перед смертью в своей единственной короткой речи за всю исповедь, – каким образом ты можешь исправить то зло, которое причинил». И добавил тише: «Если это возможно исправить…» Несколько секунд он колебался и затем продолжил: «Да простит меня Господь, чье милосердие бесконечно, но даже если ты попытаешься исправить причиненное тобой зло, я думаю, что тебе нет места в раю». Во время своего бегства Ойген Мюсс думал об исправлении зла. Другим было проще, потому что во время своего бегства им нужно было только уничтожить архивы, – ему же нужно было уничтожить все свидетельства в своем сердце. Точнее, свидетелей. Господи.
327
Узедом – остров в Балтийском море, напротив устья реки Одер.