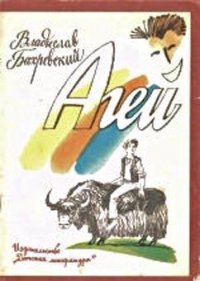Боярыня Морозова - Бахревский Владислав Анатольевич (мир бесплатных книг .TXT) 📗
Ответ был спокойный, ясный:
– Беса проклинаю. По благодати Господа моего Исуса Христа, хоть и недостойная, но аз дщерь Его есмь. А вот вы – змеиный Никонов хвост.
* * *
В ту ночь икалось низверженному патриарху Никону: до утра, переменяясь, допрашивали, уговаривали, ласкали обещаниями боярыню Морозову златоустые дьяки и подьячий, игумены, архимандриты.
Никону в Ферапонтове не спалось. Вставал, пил воду. Но икота снова поднимала с постели, и, вконец изнемогши от бессонницы, опальный князь Церкви зажег свечу, сел писать слезное моление великому государю.
Сердце нехорошо ударялось о ребра: просить гонителя о пощаде – радовать целую свору, для которой слезы бывшего властелина – лакомство.
Осилил зачин и отложил перо, задул свечу.
Лежал, постанывая. На одиночество обрекал себя в годы молодые, чуя великие силы и стремясь к высшей мощи духа и слова. И вот – одинок. За всю Россию Бога молил, а если кто и поминает теперь, так раскольники – проклиная.
Самого опасного супротивника, царицу Марию Ильиничну, Бог прибрал. Молодая царица – приживалка в доме Артамона Матвеева. Артамон – друг царя с детства, всегда был его руками, а теперь – голова!
Досада разбирала. В патриархах знать не хотел всех этих стольников, дьяков, подьячих – мелюзгу. А среди них иные исполняли царскую службу, ему, гонимому, сочувствуя. Артамон-то был свой.
Увы! Не искал ты, Никонище, участия всех радеющих о тебе. Презрением от себя гнал… Царице написать? Как бы не взъярился Сам… Артамону? Не напортить бы. Коли Татьяна Михайловна помалкивает, а она в Тереме среди первых, стало быть, не время посылать ходатаев к Тишайшему.
– Да быть ли иным-то временам?! – снова простонал Никон, икнул.
Подвывая от немощи, от ничтожества, поднялся, напился из ведра. Запалил свечу от лампады.
Писал размашисто: «Ради моих вин отвержен я в Ферапонтов монастырь шестой год, а как в келье затворен – четвертый год. Теперь я болен, наг и бос, и креста на мне нет третий год».
Подумал, чем еще пронять тупое царево бесстрастие. Тишайший – добрейшая душа, но неприязнь его – хуже проклятия. Ледяная гора. Никакими слезами эту гору не растопишь, никакими словами не расколешь.
«Стыдно и в другую келию выйти, – писал Никон, – где хлебы пекут и кушанье готовят, потому что многия части зазорные неприкрыты. – Совесть-то, чай, должна вскопошиться в его царском боголюбии… Еще подналег: – Со всякой нужды келейной и недостатков – оцинжал. Руки больны, левая не поднимается, на глазах бельма от чада и дыма, из зубов кровь идет смердящая, и они не терпят ни горячего, ни холодного, ни кислого. Ноги пухнут, и потому не могу церковного правила править. А поп у меня один, и тот слеп, говорить по книгам не видит. Приставы ничего ни продать, ни купить не дадут…»
Никон быстро отошел от стола, возлег. Всякая кровинка кипела в нем от обиды. Как он мог, царек паршивенький, забыть все великое, о чем возмечтал, питаясь его откровениями? Себе все захотел приписать? А совесть? А правда?
И снова заскулил от немочи, от бессилия. Кто посмеет указать на черное самодержцу, если самого патриарха в пустыньку упрятали – за правду. Кинулся записать всплывшую мыслишку:
«Когда к Степану весть пришла, что сына твоего, царевича Алексея, не стало, то девка его пришла в другую избу и говорила: «Ныне в Москве кручина, а у нашего барина радость, говорит: «Теперь нашего колодника надежда вся погибла. На кого надеялся, и того не стало. Кротче будет».
Степана Наумова, пристава, слава богу, переменили… Кукушку на ястреба. Шайсупов-то даже мордой грубиян. Говорит как лает.
«Худо без меня матери нашей Церкви, – думал Никон. – Лизуны правят, а я здесь пропадаю. Монастырь Воскресенский не достроил, а се – знамение. Пропадет Россия. И пропадать ей, покуда Воскресенский монастырь – икона животворящая – не будет завершен и не просияет всеми своими храмами».
Задул свечу, встал на колени, а спина не гнется, левая рука мешает – ни жива ни мертва. На коленках добрел до постели. Заполз. Закрыл глаза. И поплыло его тело по водам. И узнал эти воды – Иордань Нового Иерусалима.
Увидел вдруг стоящего на берегу старца. Был старец как свет. Узнал его Никон: смиренный Нил.
– Жду тебя в моем скиту, – сказал Нил.
– Всею бы душой! Ездил, бывало, теперь замкнут.
– Потерпи. Нынче так, завтра иначе.
Тут Никона потом обдало.
– Старче! Ты думаешь, я стяжатель?
– Разве не было?
– Было! Ради величия Церкви! – крикнул, но вышло петушком – стыдоба.
– Пора бы тебе смириться! – печально покачал головою святой старец и растаял в воздухе.
– Каюсь! Преподобный отец! Было! Было!
И проснулся, сокрушенный. Иродиакон Мардарий тихонько тряс за плечо.
– Кричишь и стонешь, святейший.
– Какой час?
– Пора службу служить.
Никон сел на постели, снова поднялась икота. Мардарий подал ковш воды.
– Кто-то поминает.
– Кому я надобен, горемыка-узник?.. Господи, кому и что готовит грядущий день?!
Спасение души
Для боярыни Морозовой, для княгини Евдокии то утро началось еще с одного увещевания. Краткого, усталого.
Боярыня, не отвечая, перекрестилась по-старому, княгиня – как старшая. Сестер вывели из монастыря. Федосью Прокопьевну ждали слуги с сукном. Понесли, княгиня сама пошла.
Доставили домой, в подклеть. Ноги снова заковали.
В людской стоял плач. Иные из дворни приходили на порожек поклониться госпожам. Увы! Иван Глебович не объявился. Мог бы ночью, тайно. Не осмелился.
Перед сном Федосья сказала Евдокии:
– Последняя ночь в родном доме.
– Куда же нас денут?!
– У Тишайшего тюрем много. Любитель по тюрьмам ходить, крохами со своего стола потчевать. – Потянулась рукой к сестре, и та руку подала. – Как ласкова родная плоть. Ежели нас разлучат, молю тебя, поминай в молитвах убогую Феодору.
– Вкупе стоим, вкупе и держать нас должны.
– У злобы ухищрений много. Наш-то Навуходоносор мастеров любит. Есть у него козлорогие и на сие дело – как досаждать человеку. На всякий день у них новая боль припасена.
Еще затемно – от сна не очнулись – пожаловал бедный Илларион Иванов, Стрелецкого приказа думный дьяк. Кузнеца с собой привел. Освободили от железных пут ноги и тотчас возложили громоздкие цепи на шею, обвили руки. Боярыню Федосью Прокопьевну сверх того приторочили к тяжелому дубовому чурбаку.
Евдокия стояла белая как снег. Но Федосья Прокопьевна возрадовалась, взяла кольцо с горла, поднесла к губам, поцеловала.
– Слава тебе, Господи! Сподобил меня на юзы апостола Павла.
– Ох, матушка-боярыня! – только и сказал царев слуга. – Пошли, дровни ждут тебя.
Нагнулся, подхватил чурбак.
Повели следом и Евдокию. Слуги жались по углам. На дворе стояла пегая лошаденка, в дровнях без короба – охапка сена. Приставы провели Евдокию мимо дровней.
– Рассаживайся, боярыня! – ухмыльнулся один из приказных.
Илларион подождал, пока боярыня сядет, чурбан положил повыше, чтоб цепь не гнула шею.
– Сестрица, куда же тебя? – крикнула Евдокия.
Все молчали. Приставы сели на верховых лошадей, дровни тронулись. Везли мимо Чудова монастыря, под царские переходы. Лошадка едва трусила.
«Царь победою своей желает насладиться», – осенило Федосью Прокопьевну, и она, звеня цепью, подняла десницу и сложила перст к персту и три совокупно.
Алексей Михайлович и впрямь пришел поглядеть на униженную, на раздавленную его самодержавным гневом и увидел: всесильна, супротивна. Боже ты мой! Каким взором опалила переходы. Слава те, Господи, что его-то не углядела! И какая неистовая сила в сложении перстов ее, в ее цепях, в ее крестьянских поганеньких дровенках – Духом Святым вызолотило низверженную.
Ноги у Алексея Михайловича стали ватными. Оглядывался – не видит ли кто, как его пришибло.
За переходами приставы поскакали скоро, возница настегал лошаденку. Везли Белым городом, по Арбату…