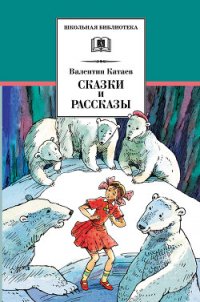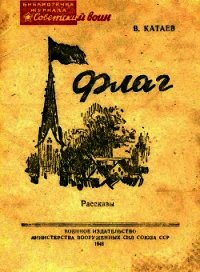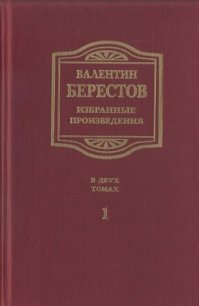Коридоры смерти. Рассказы - Ерашов Валентин Петрович (читать книги онлайн полные версии TXT) 📗
Тихо шепча, молился темный крестьянин из-под Каменец-Подольска, сержант хозяйственного взвода Губаревич, благодарил Бога: не допустил, чтобы ему, Михасю Губаревичу, пришлось взять грех на душу и расстрелять Матюхина.
Опустив пистолет, глядел на распростертое тело и содрогался от ненависти за тот плевок в лицо майор Прокус, метивший на повышение, исправный слуга. Он дождется повышения, но впереди будет пятьдесят третий год — что принесет он и полковнику, и Прокусу, и другим прокусам, они пока и вообразить не могли.
Смотрел, заставляя себя не опускать глаза и запомнить, вежливый, тихий Этинген, уже охлестнутый взглядами стукачей, уже загодя приговоренный — пока лишь к пятнадцати суткам в освободившейся после Матюхина яме, а после — к недалекому времени разгрома космополитов, когда ему и миллионам соплеменников кричали слово «жид» не только полуграмотные матюхины. И не столько они.
Стоял, унимая дрожь, и я — смотрел на первую увиденную мною смерть, на первый настоящий и столь страшный произвол… Я — я тоже что знал в жизни наперед, как она станет меня казнить… А если бы знал — разве под силу мне было изменить ее, сделать такою, какой хотел. Да и знал ли я, какой жизни я хотел для себя…
Строй распустили, наконец, и батальон отказался от завтрака, весь как один. Даже те, кто не прочь был перекусить после спектакля, — не насмелились.
И лишь Прокус — видел я, — проводив полковника и трибунальцев с отоспавшимся (на казни он присутствовать не пожелал) прокурором, направился к офицерской столовой под навесом. Я представил, как он будет ломать хлеб этими своими руками, — тогда вот меня и вырвало наконец, вырвало жестоко, наизворот.
1968 г.
Вольный Тимерган
В мае сорок третьего я стал инструктором нашего сельского райкома комсомола. Теперь-то понимаю, что для этого поста вовсе не годился, хотя бы по возрасту: мне только что минуло шестнадцать. Но я, как выражаются аппаратчики, зарекомендовал себя на практической работе секретаря школьного комитета, положение же с кадрами было трудное, и меня взяли да и назначили. У меня хватило ума сдать вместе с ребятами за девятый класс, договориться в школе на будущее, на выпускные экзамены — если к тому времени не уйду в армию, — и я ретиво принялся за дела.
Начальство наше, Никита, а в обиходе Кеша, по случаю моего выдвижения вовсе не испытывало радости: уж больно у меня был несолидный вид, как я и сам догадывался.
Внешние данные я старался исправить всеми доступными средствами: обнаружив или, скорее, придумав едва заметную близорукость, купил на базаре-толкучке (там тьма всякого продавалась) очки с малыми диоптриями, красивые и солидные; в доме инвалидов Отечественной войны выменял отцовский, мне оставленный, когда отец ушел воевать, пиджак на линялую гимнастерку с ремнем, к огорчению, брезентовым, красноармейским. Я старался ходить неторопливо, говорить сдержанно, употреблять казенные слова и не пускать петуха. И еще я соображал, в кого бы срочно влюбиться, однако с влюбленностью что-то не получалось: наверное, от моей робости, от неумения подступиться к взрослым девчатам, бывшие же мои одноклассницы для этой цели не годились, они оставались школьницами, а я заделался районным начальством. Позже я намертво втюрился в десятиклассницу Натку, но это произошло вовсе независимо от моего желания и планов.
Недели три я входил в курс: изучал формы отчетности, помогал составлять всякую райкомовскую статистику, читал протоколы бюро и первичных организаций, время от времени по собственной инициативе или по указанию Кеши Горбунова посещал комсоргов, непременно выискивая в их работе кучу недостатков, истинных или мнимых, — мне казалось, что именно в этом и заключается суть инструкторской деятельности, а также источник моего авторитета. В деревню покуда не посылали — я как бы проходил стажировку под непосредственным надзором Кеши, и я тому радовался, поскольку вырос хоть в районном, а все-таки городке и о сельских делах и заботах представление имел отдаленное.
В общем, пока все шло благополучно, я был собою вполне доволен, и Кеша Горбунов, кажется, отрешился от нездорового скепсиса по отношению ко мне.
Второй секретарь у нас — на диво всем, в войну-то! — ушла в декрет, попросту говоря, собиралась рожать; заведующую учетом от прямых обязанностей не отрывали, бумажек ей хватало по завязку, а больше нам штатных работников не полагалось.
Кеша восседал за столом, заваленным для пущей важности кипами старых газет и папками, он курил папиросу, вдвинув ее в солдатский, наборный из пуговиц мундштук, и даже предложил потянуть мне, видимо, подчеркивая особую важность момента: Кеша ни перед кем не раскрывал подаренный инвалидом фронтовой, из алюминия портсигар с «Беломором» из райкомовского закрытого распределителя. Горбунов был на четыре года старше меня и представлялся мне личностью крупного масштаба — не сам по себе, а по занимаемой должности. Он одевался, конечно, в гимнастерку, и не такую задрипанную, как у меня, а суконную, черную, с накладными карманами: Кеша подражал, как и прочие районные работники, первому секретарю парткома Чурмантаеву, а тот, в свою очередь, первому обкома, а вообще-то все, от мала до велика, заимствовали моду от Генерального, нашего вождя и учителя. И еще Горбунов имел хромовые сапоги и комиссарский ремень со звездою на пряжке. И — на зависть прочим комсомолятам — носил наган образца 1895 года в брезентовой кобуре. Кеша был строен, белобрыс, розовощеки — одноглаз, по каковой причине списан с военного учета. Физический недостаток не мешал ему, однако, пользоваться успехом среди женской части населения района, Кеша это ценил и следил за внешностью, то и дело расчесывал чубчик гребешком, старательно продувая его и пряча в нагрудный карман, там у него хранилось и девчачье зеркальце, я видел ненароком, как он охорашивается. Он был самоуверен и красноречив — тем особым красноречием на звуках, каким отличались тогда — и только ли тогда? — комсомольские работники, способные в любую минуту толкнуть речь о чем хочешь. Этой наукой уже владел — еще со школы — и я.
— Садись, — велел Горбунов, хотя приглашения не требовалось, и задвинул ящик стола, где не водилось ничего ценного, кроме пачки «Беломора» и старых директив. — Важный разговор.
Он помедлил, повернул ключ, запирая свой ящик, а затем покосился на дверь. Кому понадобилось бы нас подслушивать, а тем более врываться и очищать письменный стол — ума не приложу. И через дощатую переборку в коридор проникало каждое слово.
— Значит, так, — сказал Горбунов Кеша. — Послезавтра по радио и в печати будет важнейшее постановление партии и правительства.
— Угу, — подтвердил я непочтительно. — Выпуск военного займа. Все говорят.
— Не займа, а заёма, — поправил Горбунов и спохватился, что до времени выдал государственную тайну, известную всему базару. — Какое будет постановление — завтра скажут на совещании актива. Узком совещании, — подчеркнул он значительно. — На, держи.
Он говорил так, что было совершенно ясно: уж он-то, первый секретарь, отлично знает о теме предстоящего постановления.
Быть может — глупо подумал я, — именно потому, что совещание будет узким, и бумажка-оповещение была узкой, отпечатанной через один интервал на желтой бумаге, по истертой копирке, и там значилась вписанная от руки моя фамилия с двумя, не как-нибудь, инициалами — товарища Барташова И. К. обязывали явиться на совещание партийно-комсомольского и советско-хозяйственного актива, и я, понятно, возгордился тем, что причислен к когорте.
— Гляди, никому ни гугу, сам понимаешь, время военное, партия и правительство требуют от нас повышенной бдительности в условиях борьбы против озверелого врага, — наставлял Кеша, и я не чувствовал в словах его фальши, не испытывал неловкости, хотя изречены были эти слова не с трибуны, а тут, с глазу на глаз. Я только еще больше проникся пониманием оказанных мне чести и доверия и даже маме не похвастался, куда и зачем иду завтра, да мама и не оценила бы, пожалуй: она работала в школе и, думалось мне теперь, мало смыслила в наших государственных делах.