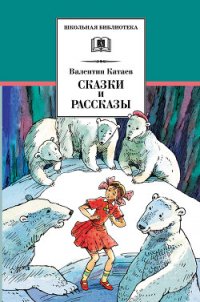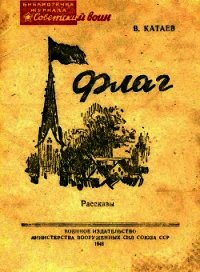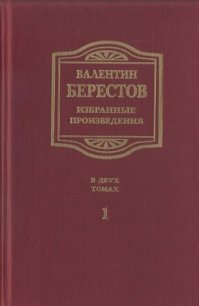Коридоры смерти. Рассказы - Ерашов Валентин Петрович (читать книги онлайн полные версии TXT) 📗
Матюхина подвели к яме, он пригнулся и глянул туда, словно ища чего-то на дне — и мне представилось почему-то, будто там прыгает, пытаясь вырваться, лягушка, — потом выпрямился, набычился, мне подумалось: вот он ринется на полковника, сшибет его с ног, проломит строй и рванет в лес, ломая его и круша, или завоет, как вчера, туго и застревающе, но Матюхин стал смирно, будто ждал, что ему объявят благодарность перед строем, и смирно без команды стояли мы, пятьсот против одного.
Выдвинулся вперед хлипкий трибунальщик, шелестнул бумагой — было явственно слышно, как разворачивалась она, — и зашелестел, зашуршал несильный внятный голос:
— Именем Союза Советских Социалистических Республик… Военный трибунал в составе председательствующего капитана юстиции Фоменко, военных заседателей старшего лейтенанта Авдеева и рядового Старостина, при секретаре младшем лейтенанте юстиции Николаеве, рассмотрев двадцать шестого июля одна тысяча девятьсот сорок пятого года в закрытом судебном заседании дело по обвинению…
Я не мог слушать, я только смотрел на Матюхина, и я — слышал каждое слово, и, наверное, каждое слово и каждый шорох слышал всякий на этой глухой поляне.
Тысяча девятьсот восемнадцатого года рождения. Русский. Из крестьян. Женат. Имеет двоих детей. Беспартийный. Образование пять классов. Ранее судим…
За организацию массовых самовольных отлучек личного состава подразделения… Подрыв воинской дисциплины и боевой готовности… Изнасилование и ограбление колхозницы сельхозартели «Песчаное»… Подготовку к дезертирству…
По статье… По статье… По…
К высшей мере наказания…
Расстрелу.
Приговор окончательный и обжалованию не подлежит.
Батальон молчал.
Трибунальщик сложил бумагу, аккуратно всунул в карман кителя, непочтительно кивнул тому, тяжелому, из СМЕРШа, и тот нехотя, туго кивнул ему, тотчас полуобернулся к Прокусу, и, послушные тихому приказу майора, отступили, высвобождая место, Губаревич и Старостин.
Там, где только что стояли они, высился теперь Прокус, он легким, изящным движением расстегнул кобуру, вынул пистолет — обыкновенный черненый «ТТ», — вжал рукоять в ладонь, повертел кистью руки, как бы примериваясь, и очень просто, спокойно попросил Матюхина сзади:
— На колени встаньте.
Матюхин не шелохнулся, он оставался неподвижен, как и тогда, когда зачитывали приговор, он по-прежнему глядел куда-то вверх, и, не видя отсюда, я знал: глаза его белы, выкачены, и в них не осталось ничего человеческого — ни боли, ни страха, ни тоски, ни гнева, ни просьбы, ни мольбы, — Матюхин уже отрешился, он был мертв.
Опять запела бессмысленная птаха, не боясь стылых и молчащих людей, и косо планировали на поляну обожженные листья, и тянуло с кухни вкусным дымком.
— На колени, — тоже негромко, но приказно велел полковник, Матюхин повернул к нему белое огромное лицо, пошевелил губами, вздохнул и медленно, трудно сгибая колени, опустился. Должно быть, ему подвернулся жесткий комок, он поерзал, устраиваясь удобнее. Потом уперся пальцами в землю и сгорбился.
Тянуло с кухни вкусным повседневным дымком, пахла живая трава, пахли подвижные летучие листья, тихо-тихо было на поляне. Прокус почему-то медлил — или и это было предусмотрено программой их спектакля?
Было тихо, было невероятно тихо, и щелчок показался мне выстрелом, и многим, наверное, показалось, потому что строй дрогнул, но Матюхин оставался неподвижен. И, отбросив переломленную ветку — она-то и треснула, — плетя ногами, охлестывая травою сапоги, сбоку, от опушки пошел к стоящим перед строем Леша Авдеев, командир первой стрелковой, вчерашний заседатель.
— Кругом — марш! — крикнул ему полковник, но Леша отмахнулся, и стало очевидным: он пьян и сейчас натворит что-то.
— Мудак, — злобно сказал рядом со мною Кострицын, а Нагуманов дернулся, чтобы окликнуть Авдеева, но прикусил губу. И все видели, как Леша стал напротив капитана юстиции; все услыхали, как он произнес отчетливо и совсем не пьяно:
— Что ж это вы, начальник, меня объегорили? Сказали ведь — так, для устрашения, а вышестоящий трибунал приговор отменит. Я вам поверил, как офицер офицеру, иначе бы не подписал.
— Кру-гом! — приказал полковник Леше, и Авдеев повернулся к нему, бросил:
— А вы не орите, я вам не подчинен.
— Командир батальона! — почти жалобно воззвал контрразведчик, и Нагуманов с места вполголоса велел:
— Иди, Авдеев, ты иди отсюда…
Авдеев послушался, он опять принялся плести ногами по траве — теперь обратно, а полковник огрызнулся на Прокуса:
— Долго вы будете?
— Сейчас, затвор заело, — виновато ответил Прокус.
— Кончайте, что ли! — крикнули из строя, и следом: — Стыдно! Вы творите беззаконие!
Так мог сказать один только Этинген, и он сказал это, я не видел его, но узнал голос, и Кострицын узнал, шепнул:
— Вот он, христосик твой, показал свое лицо… Понаплачется теперь.
А Матюхин стыл в обезьяньей позе, и спелая глина желтела перед ним, липла к рукам.
Прокус наконец управился с пистолетом и все так же небрежно, изящно поднес к затылку Матюхина; вероятно, коснулся дулом, потому что все туловище приговоренного вздрогнуло и осело еще ниже, одновременно склоняясь вперед… Выстрела я не услышал, только синий дымок пыхнул над склоненной головой.
Он должен был свалиться в могилу, он был мертв, он давно был мертв, а сейчас еще и пристрелен, он должен был свалиться. У меня дергалось веко, наполнился вязко рот, я не мог отвернуться, меня тошнило, но я не мог отвернуться и смотрел, как он свалится туда, в спелую желтую глину.
Но Матюхин, опираясь руками, на мгновение замер и с трудом выпрямился во весь рост, показав затылок с черной струей, он показал нам затылок, а Прокусу — лицо, исковерканное, должно быть, страхом, болью и яростью, — он повернулся и плюнул в Прокуса и выдавил слышно:
— Убил ты меня, гад…
И тогда, вскинувшись, искривись и матюгаясь, майор разрядил в него всю обойму — он стрелял в лоб, в глаза, в губы, куда попадало.
Расстрелянный стоял, покачиваясь, он был мертв — теперь уж наверняка, и он стоял, и, добив последний патрон, Прокус толкнул Матюхина в спину, тот упал поперек могилы, дернувшись в последний раз. Ноги его торчали оттуда — вверх…
Мы стояли молча.
Стоял, поскрипывая зубами, Нагуманов, он смотрел и не знал, что через две недели и ему зачитают приговор: за преступную халатность, приведшую К разложению дисциплины во вверенном подразделении — разжаловать, осудить к восьми годам лишения свободы, — и отправят в Сибирь, на такой же лесоповал.
Глядел Кострицын, для такого случая выбритый и подтянутый, ему-то бояться нечего было, ведь он проявил принципиальность, политическую зрелость, поддержал полковника из контрразведки, теперь Кострицын тихо дослужит и вернется в Пензу, так полагал он, не ведая, что поздней осенью, когда будет сопровождать до Москвы эшелон с бывшими штрафниками, демобилизованными наконец, — его, человека, умевшего казаться незлым и справедливым, вышвырнут на ходу из вагона, припомнив и Матюхина — о ночном разговоре в халабудке контрразведчика узнают все, — и пощечину, которой наградит он в пути бывшего солдата.
Держался в стороне за ствол осинки Леша Авдеев. И он тоже не мог предугадать своей судьбы, хотя знал, на что идет. А ждал его тоже суд — правда, офицерской чести, поскольку трибунальцы не пожелали обострять ситуацию — и ждала партийная комиссия. Лешу вытурят, в запас без пенсии по ранениям и без партийного билета, он станет мыкаться и спиваться потихоньку.
Щерился балагур и стукач Виктор Старостин, веселый малый, похожий на студента, пострадавший «за любовь», а на самом деле за пьянку на боевом дежурстве. Это он, осердясь, что Матюхин не поделился деревенской снедью, запросто выдал его своему шефу Прокусу и теперь предвкушал заслуженные тридцать сребреников и не догадывался, как жестоко и страшно будет избит сегодня ночью лишь за то, что был заседателем в суде скором и неправедном, — и, харкая кровью, недолго протянет на свете.