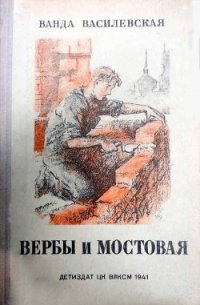Вербы пробуждаются зимой (Роман) - Бораненков Николай Егорович (книги без регистрации полные версии .TXT) 📗
Бугров смотрит на выложенные из грубого камня казармы, и, улыбаясь, дает мыслям другой поворот.
«А пожалуй, нас не будут ругать. Нами будут восхищаться. На нас будут равняться, про нас будут слагать сказы. В каких условиях жили, сколько тягот перенесли, а в какой чистоте носили сердца! Фашисты вон имели зеркальные казармы, носили крахмальные манжеты. А как были свиньи, так свиньями до погибели и остались. Наш же солдат и в латаной, нестираной рубашке оказался чище их».
Докурив папиросу, Бугров бросил окурок в урну, встал:
«Да, большая это штука — делать светлыми души людей. Пожалуй, нет этого прекрасней. Вот если бы спросили: „Не устал ли ты заниматься этим, товарищ Бугров? Не наскучило ли это тебе?“ Нет, не устал, не наскучило. Если б было сто жизней, и все сто с радостью бы отдал воспитанию людей. Тянет к ним. Сросся с ними. Придется ли так на новом месте? Что там меня ждет?»
Мягко шурша покрышками, подкатил политотдельский «газик» с желтым чемоданом на заднем сиденье. Водитель-солдат быстро вылез из машины и вскинул руку к шляпе с красной звездой.
— Товарищ полковник, машина подана!
— Хорошо. Поехали.
Бугров сел рядом с шофером, и машина, круто обогнув фонтан и миновав ворота, понеслась к железнодорожной станции.
— Не опоздаем? — спросил Бугров.
— Нет, что вы, — ответил водитель. — Вам, товарищ полковник, еще минут пятнадцать на чашку чая останется.
— Да, попить чайку не мешало бы, — согласился Бугров. — Если буфет открыт, зайдем позавтракаем.
— Да и закрыт — не беда, — улыбнулся во все загорелое лицо водитель. — В вашем поезде есть вагон-ресторан.
«Ресторан, — вздохнул украдкой Бугров. — Самый лучший ресторан был дома. Уселись бы сейчас всей семьей за круглый стол и, подшучивая друг над другом, начали бы чаевничать. Жена бы подкладывала пирожки с вареньем, а дочери подливали чай, но… Они теперь уже чаевничают под Москвой у бабушки. А может, уже позавтракали и умчались по грибы?»
Так думал Бугров по дороге на станцию. Но едва он прибыл туда, как сразу понял, что ни о каком чаепитии не может быть и речи. Возле серого здания с тремя деревянными колоннами, обвитыми диким виноградом, стояла толпа офицеров, приехавших на пяти легковых машинах. Тут были работники штаба, политотдела, кое- кто из подразделений, несколько женщин с букетами, и среди них сторожащим журавлем возвышался комдив Гургадзе.
Из округа пришла телеграмма, что в гарнизон приезжает ансамбль песни и пляски, и Бугров обрадовался, что однополчане так тепло встречают гостей. Вот только машин маловато. Как же они все усядутся? Приедет, поди, человек двадцать пять.
Он сошел с машины, распрощался с шофером, напомнив ему про обещание пригласить на свадьбу, и шагнул к комдиву, только что вышедшему из толпы.
— Давид Георгиевич! Что ж вы автобус не взяли?
— Какой автобус? Зачем? — с мягким грузинским акцентом воскликнул Гургадзе.
— Артистов везти.
— Артистов? Да они же вечером будут. Мы вас приехали провожать.
— Меня? — Бугров смущенно и оторопело остановился. Вчера обошел всех, распрощался и вот те на! Привалили даже с цветами.
Комдив взял его под руку:
— А ты не смущайся. В подхалимах ходить не будем. Провинишься — на высокий чин не поглядим. Прочистим с песочком. Так я говорю, товарищи офицеры?
— Так! Конечно!
Бугров, улыбаясь, развел руками:
— Ну, что вы, товарищи! Разве так можно? Не успел пост занять, как уже чистить собрались.
— А это не вредно, — продолжал шутить комдив. — За чищеный кувшин дороже дают. Проученный конь быстрее на гору летит. Но мы верим, Иваныч, не быть тебе битым. Верим! Ты беркут старый. Сумеешь высоко летать.
— Ну, спасибо. Благодарю, товарищи, — здороваясь, пожимая руку каждому, растроганно отвечал Бугров. — Неохота покидать вас. Чертовски неохота. Схватить бы вот всех, — он широко раскинул руки, — в охапку и в дорогу… с собой.
Комдив заслонил плечом жену — такую же высокую, тонкую и остроносую, как сам, шутя, пригрозил пальцем.
— Эн, нет. Только не Илико. Она мне самому нужна. — И провел ребром ладони по горлу. — Вот так, кацо.
Илико прижалась плечом к Бугрову:
— А если уеду!
— Пустой трюк, — махнул рукой комдив. — На дне морском найду.
Простецкий разговор командира с начальником политотдела сразу развеял стеснительность, и вот уже посыпались шутки, напутствия, обещания не забывать.
Увидев в толпе Ярцева, Бугров обрадованно подошел к нему:
— Сергей! И ты здесь?
Ярцев, подавляя грусть, улыбнулся.
— А как же, Матвей Иванович. Такой случай. Может, видимся в последний раз.
— Почему?
— Сами знаете. На земле не сочтешь дорог.
Бугров положил руку на плечо Сергея:
— Увидимся. И не единожды, как говорят.
За дальними постройками раздался разлетный, зовущий вдаль гудок паровоза. Все тронулись на перрон. Комдив поднял руку:
— Стоп! Присядем, друзья.
Все кинулись к одинокой скамейке, облепили ее со всех сторон. Комдив и Бугров сели рядом на чемодан, обняли друг друга.
Осень рано сорвала листву с деревьев. А еще поспешней, вовсе не к сроку закрутил, запорхал в стылом небе снег. В одну ночь прикрыл он белым саваном поля, крыши жилищ, ометы соломы, налип толстым слоем на заборы, телеграфные провода. Застигнутые врасплох грачи утром всполошились и с беспокойным гвалтом потянулись на юг.
От Лутош к лесу пролег первый полозный след. Обогнув куст ивняка в залужье, сани плавно прочертили кривую по пригорку и остановились у сосновой рощицы, обнесенной от скота жердевым забором и давно обвалившейся, поросшей елочками канавой.
За этой неказистой оградой, меж корявых сосен, в тихом земном покое стояли немые памятники отшумевшей молодости, оборванных страстей, несбывшихся мечтаний, недожитых зорь, недоцелованной любви.
Памятники эти были по меньшей мере скромны и как бы говорили, что ушедших тут не особенно почитают, что, видно, у живых так много земных забот, что им некогда присмотреть за крестами. И потому одни из них уже покосились, полусгнили и держались только при помощи бурьяна и веток. Другие поражали своей убогостью: необтесанные, сбитые наспех из кусков досок, поленьев. Мягкий снег запушил их, будто надел на них белые нательные рубахи. Сюда, к этим белым распятьям, потянулось от саней два человеческих следа. Один — большой, с отпечаткой подошвы сапог. Другой — совсем еще детский, с рисунком подшитых в носке и пятке катанок.
Петляя меж сосен, следы привели к редкому, низкорослому ельнику, за которым можно было сейчас же увидеть и тех, кто пришел сюда в этот студеный час. Они стояли у могилы с неказистым, метра в два высотой, обелиском, плотно сбитым из досок и покрашенным под цвет неба. Вершину обелиска венчала красная звездочка. На ней висел венок из васильков и ромашек. Цветы уже завяли, высохли, но на фоне снега казались живыми, будто сорванными недавно. У подножия обелиска, на холмике, лежала свежая веточка хвои и гроздь ярко- красной, спелой рябины.
Человек в шинели поправил лапку хвои, снял с холмика оброненную дятлом шишку и, распрямившись, чуть откинув назад голову, медленно стянул через правое ухо заснеженную шапку. Стоявший с ним рядом мальчонка хотел проделать то же, но пошарив по голове и не найдя на ней шапки, молча и виновато затих у серой полы шинели. Однако вскоре ему надоела эта непонятная неподвижность, и он, подойдя к обелиску и сняв с правой руки варежку, стал рисовать на снежной стенке незамысловатые крестики и кружочки.
Мужчина же стоял не шелохнувшись, откинув назад голову, закрыв глаза, будто сейчас его жестоко пытали, и он, не желая показывать свою слабость, принял эту гордую осанку. Хлопья снега падали на его исхудалое, с резко выступающими скулами лицо. Падали и не таяли, лишь налеплялись все гуще и гуще.
В этом человеке нетрудно было узнать старого солдата Ивана Плахина. Он приходил сюда то один, то с сынишкой и подолгу стоял у холмика, под которым непробудно спал самый дорогой для него человек на свете — его милая Лена. Сколько бы ласковых слов сказал он ей сейчас, очнись она хоть на минуту, как бы берег секунды, чтобы побольше побыть с ней, будь она жива! Только теперь он всем сердцем понял, как жесток был с ней в Иркутске, как часто засыпал раньше времени, когда ей хотелось пошептаться, поговорить. Он бы отдал полжизни за те потерянные минуты, но теперь уже ничего не вернешь. Как скверно, что жизнь не возвращает упущенных минут, что человек бессилен повторять пройденное! Когда-нибудь, может, научатся возвращать свой возраст, может, не будет нежданных смертей и человек станет жить, сколько захочет. Но сейчас… Какую же лютую кару надо придумать тем, кто губит жизни, когда срок их и без того ничтожно мал! Где теперь этот гад в образе святого Денисия? К чьей душе подползает с ядовитым жалом? Прости нас, Лена, что мы их не добили. Прости, что не уберег тебя, сдурел от тишины и забыл закон солдатский — держать всегда оружие наготове. Проверить бы гада, вывернуть все его нутро, а мы посмеивались, принимали предателя за глухого чудака. Партийную организацию бы создать в колхозе, поднять на религию комсомол, а мы… Эх, Плахин, Плахин! Какой же ты к лешему коммунист?