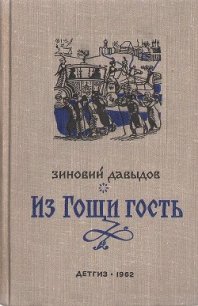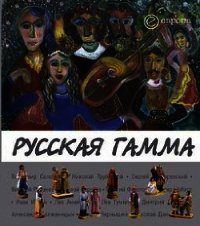Русская служба и другие истории (Сборник) - Зиник Зиновий Ефимович (читать книги без .TXT) 📗
«Как у вас здесь с детишками обращаются», — услышал он из-за спины недоумевающий сиплый отцовский баритон. От этой отцовской фразы Алек опустил чемодан оторопело. На асфальтовой плешке рядом с киоском благим матом орал ребенок. Он топал ножками в спустившихся белых носочках. Он шмыгал сопливым носом, его губы и щеки были перемазаны шоколадной плиткой «Марс-бар», таявшей в его сжатом кулачке. Мамаша стояла рядом с коляской, с еще одним младенцем на руках, переворачивая в коляске то ли мокрые пеленки, то ли одеяло. Одновременно она дымила сигаретой, жевала жвачку и материла своего сынка в спущенных носках. Ей самой было не больше двадцати. В ней была лихость, раздрызганность и одновременно убожество человека, живущего по безналичному расчету, без гроша в кармане — на талоны, за счет чужой благотворительности, но благотворительности анонимной, безличной, государственной. В ее одеждах, тряпках, блузке и юбке, в колерах — от бледно-розового до бледно-салатового — была вульгарная надежда на что-то светленькое и радостное, на некую общедоступность положительных эмоций, социалистическое равноправие счастья. В их лицах — и мамашином, и сыночка, и младенца — была болезненная бледность, не то чтобы нездоровая, а какая-то лишенность солнца — ввиду его полной ненужности. Замызганный сынок снова заорал после мгновенной передышки, и мамаша, переместив сигарету из правого угла губ в левый, размахнулась и отвесила ему оплеуху.
«Жестоко у вас здесь с детишками обращаются», — повторил отец, скорбно и с укором покачав головой.
«Почему все во множественном числе? У вас… с детишками… Чего ты обобщаешь? Какая-то недоделанная алкоголичка дала по мордасам своему ублюдку — и ты уже делаешь выводы об отношении к детям у английской нации», — пробурчал Алек, хотя сам не упускал случая пройтись насчет, скажем, английской любви к домашним животным и параллельной тенденции отучить и отлучить детей от домашней любви школами-интернатами, розгами и доносами, когда они месяцами не видят родительских лиц. В памяти, как бы сердечной спазмой мгновенной тоски, промелькнула асфальтовая площадка перед учреждением, где сгрудились дети в коротких штанишках с вещевыми мешками в нервных объятиях матерей перед отправкой в пионерский лагерь; или нет, еще острее и тоскливей: переход через рельсы у края дачной платформы, когда уже виден несущийся справа гудящий паровоз и никак не можешь решить — шагнуть на другую сторону или все же не рисковать? В этот момент он, видимо, и потерял направление окончательно. Вместо автобусных остановок и стоянки такси они вышли с отцом на вокзальные задворки.
Он опустил чемодан на замусоренный асфальт, отер пот со лба рукой и оглянулся вокруг в замешательстве. Он никак не мог сообразить, в какой части привокзальной территории они оказались: то ли потому, что вообще никогда сюда не попадал, то ли из-за того, что знакомые места изуродовал до неузнаваемости бульдозер перестройки. Пред ними простирался пустырь с руинами и перекореженным, как после бомбежки, навесом в углу, где громоздились ржавые помойные баки. Из-за строительного забора слева уже нависала постмодернистская конструкция из голубого зеркального стекла, отороченного арками с башенками; но и это незаконченное здание гляделось как мираж или руины — марсианские руины. «В реконструкции участвуют лучшие архитекторы мира, между прочим», — начал было Алек тоном профессионального гида, блуждая взглядом по пустырю. Развалины слева походили, наоборот, на римский акведук, а может быть, это была заброшенная ветка викторианского железнодорожного перегона, вздыбленного мощными арками над землей. Тюремным двором замыкали пустырь глухие кирпичные стены заброшенных зданий — ну прямо-таки взятая штурмом и разграбленная крепость.
Трущобы всегда вызывали у него чувство сладкой тревоги своей скользящей рифмовкой с прошлым — плохо поддающимся расшифровке повтором в памяти. Перед глазами снова промелькнула асфальтовая плешка с детишками перед отправкой в лагерь, или это были бараки общежития у разрушенных гаражей, где они с подростковым ожесточением убивали бродячих кошек у помойных баков и дразнили алкоголиков-инвалидов, распивавших прямо на мусорной куче. Но это было не просто случайное эхо: в этом повторе, угаданном памятью, им ощущался некий эпохальный сдвиг во времени, догадка, дарованная ему побегом в лондонское существование, о другом мире, неведомом, закрытом прочно для отца, для всех оттуда, из его советского прошлого. Отец потянул его за рукав: куча мусора и тряпья на голой земле шевельнулась и оказалась троицей дремлющих побродяжек, алкашей-доходяг, сгрудившихся среди пустых бутылок сидра вокруг ржавой железной бочки-чана с тлеющими углями. Тут жгли помойку, и от дыма исходил сладковатый запах.
Еще одним повтором, как будто заранее отрепетированным сюрпризом, отделился ханыга в темных очках фальшивого слепого и в шляпе российского нигилиста-шестидесятника. Алек еле избавился от него четверть часа назад у входа на вокзал: он имел глупость задержаться взглядом на этой экзотической фигуре нищего, и тот поплелся за ним с протянутой рукой, бормоча нечто витиеватое про алтарь гуманизма. Алек ничего ему не дал принципиально. Подать такому милостыню — значит признать право на подобное существование: без забот и без любви, привольно наклюкавшись, глядеть на звезды из канавы. Именно этот род занятий и лелеял тайно в душе Алек, но никогда себе в этом не признавался: ведь привольную жизнь в канаве можно было бы вести и при советской власти, никуда не уезжая. Подобной мысли он себе позволить не мог.
«Ваше скромное пожертвование, сэр, на алтарь гуманизма не останется незамеченным в глазах благодарного человечества. Сэр», — продекламировал ханыга в очках русского нигилиста, как будто гаерничая.
«Я уже пожертвовал», — соврал Алек, отстраняясь от протянутой ладони. «Я тебе советую говорить с ним по-русски: он поймет, что мы иностранцы, и отстанет», — сказал Алек отцу, но бродяга сделал еще один шаг навстречу Алеку с теми же «пожертвованиями на алтарь гуманизма».
«Он, по-моему, глухой», — пробормотал отец.
«Пусть купит себе слуховой аппарат. У нас бесплатное медицинское обслуживание», — пробормотал Алек раздраженно и, подхватив чемодан, устремился к проему в стене, туда, где намечались признаки городской жизни. Отец замешкался, и Алек, через плечо, видел, как тот сунул бродяге мелочь в протянутую ладонь «на алтарь гуманизма». Издалека отец казался совершенно одной комплекции с Алеком. Но с годами Алек разрастался, разбухал, как бы обрастая плотью, как перестоявшее тесто из кастрюли, в то время как его отец сморщивался усыхая.
«До чего здесь людей доводят», — покачал отец скорбно головой, нагнав Алека, похожий в этот момент на загрустившего бизона. Никакого нет резона у себя держать бизона. Алек никак не мог вспомнить изначальный импульс, заставивший его полгода назад послать приглашение отцу.
«Кто доводит? — раздраженно переспросил Алек, одновременно пытаясь и найти веское возражение, и отыскать выход из тупиков и закоулков. — Никто их не доводит. Они сами себя доводят. Это алкоголики, а не отчаявшаяся беднота, как в Советском Союзе. То есть они нищие, но не потому, что жрать не на что, а потому, что не хотят работать. — Он стал энергично объяснять отцу про различные службы благотворительности, про Армию спасения и вообще о заботе государства, о налоговой системе. — Их пытаются затащить в разные приюты, но они, как только оклемаются, тут же бегут обратно, на тротуары. Им совершенно бесполезно помогать, но им помогают. Зимой горячий суп развозят».
«Да ты не волнуйся. Я же не тебя обвиняю. Я вообще говорю. Какие-то они здесь у вас отверженные, прямо как из Виктора Гюго. У нас тоже нищие появились, погорельцы всякие, после войны особенно. Но вид у них не был такой отверженный».
«Отверженные, тоже скажешь! Никакие они не униженные и оскорбленные. Они бродяжничают, можно сказать, из принципа, а не по необходимости».