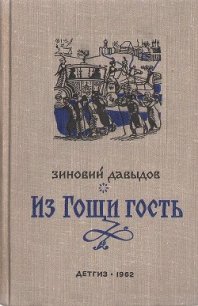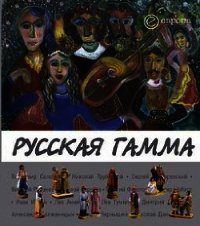Русская служба и другие истории (Сборник) - Зиник Зиновий Ефимович (читать книги без .TXT) 📗
Забывается при этом, что эти дырявые символы протеста стоят не дешевле полосатого костюма приличного клерка из Сити. Как она умеет разбазаривать деньги: уверена, что обязательно кто-то выручит; ему всю жизнь приходилось зарабатывать свой ежедневный паек — день за днем, без продыха. Она вот уже год берет у него деньги, делая вид, что — взаймы. Он больше не может позволить себе подобную экстравагантность. Он себе не мог позволить самый дешевый «Амстрад» с русским принтером, а у него завал архивов, он должен, в конце концов, перепечатать весь этот хаос и навести ясность в своем прошлом за сорок пять лет, без «Амстрада» не разберешься: его запутанная сложная жизнь, его переписка, его переводы, его мысли, им всем наплевать, никто не пожалеет, никто не хочет признать, что у него тоже право на заслуженный душевный отдых. Он всю жизнь совершал поступки, за всех переживал и думал за других. Ему хочется немного покоя и ласки для себя. Вот именно: покой и воля. Давно усталый раб. Слишком давно и слишком усталый, чтобы оценить покой, а тем более — волю. Остается глядеть на дырявые джинсы. Дырка была и сзади, прямо под ягодицей, и тут никаких колготок с рейтузами не проглядывало, а сияла ягодица. Алек открыл рот, облизнул пересохшие губы, промычал, но ничего не сказал. Впрочем, при всей ее миниатюрности, ее выдающийся во всех отношениях зад выдавал ее с головой. «Зад выдавал с головой; интересный словооборот», — усмехнулся он про себя. Что она, интересно, всем этим хочет сказать? Чего она вообще в нем, старом дураке, нашла?
«Ты не хочешь слегка привести себя в порядок перед приездом отца? Я имею в виду слегка, например, подкраситься», — пояснил он, заметив, как потемнел от возмущения ее взгляд. В самом повторе этих его «слегка», в самой манере повторять слова, когда он нервничал, она слышала его диктующую настойчивость, почти диктаторскую настырность.
«Зачем?» Ее губы сжались в детской гримасе упрямства.
«Ради отца. Знаешь, они любят, в его поколении, чтобы, знаешь, женщина выглядела празднично: юбка, капрон, туфли на высоких каблуках, губы, знаешь. Пусть думает, что у нас все в порядке. Я же ничего особенного не прошу». Он решил не упоминать дыр на самых непотребных местах. Она, сосредоточенно нахмурив брови, вслушивалась в его невнятные конструкции.
«Накрасить губы, по-твоему, значит все в порядке? — И тут ее осенила неожиданная догадка: — Ты меня стесняешься? Да? Тебе неприятно показываться со мной на людях, перед отцом, да? Ты скверный человек. У тебя вредные мысли в голове, малыш. Я вообще могу уйти — чтобы у тебя с отцом все было в порядке», — губы у нее задрожали. Он ожидал, что в ушах сейчас раздастся душераздирающий вопль, потом тихий всхлип, переходящий в безостановочное рыдание, подростковую истерику, с кусанием ногтей, топаньем ног, битьем головой об стенку. Он вздернул в жесте беспомощности на мгновение руки в воздух, сдаваясь без сопротивления, затыкая уши, зажмурив глаза, как будто готовясь к бомбежке с воздуха. Он не видел, как она вылетела в коридор. Вместо истерических воплей он услышал, как с грохотом захлопнулась входная дверь. Снова из-за отца ему приходится выбирать, с кем и когда общаться. Он бросился за ней вдогонку, но рывок этот был не слишком энергичным, как будто он наполовину надеялся, что она уже успела забежать за поворот и скрыться. Как всегда, он и сейчас сделал невероятное усилие по достижению цели лишь тогда, когда стало совершенно ясно, что добиваться чего-либо слишком поздно или совершенно бесполезно: когда дело заранее было обречено на провал.
Всю дорогу на пути к Ливерпульскому вокзалу колеса надземки и подземки выстукивали все те же строки, засевшие с утра в голове: «Что же сделал я за пакость, я убийца и злодей, я весь мир заставил плакать…» — дальше он не помнил, что за пакость этот поэт, и он сам заодно, в конечном счете, сделал, кроме того, что заставил плакать весь мир, а вот над чем — трудно вспомнить. Просто: весь мир заставил плакать. Этого вполне достаточно. Пот, соленый пот бессмысленного, бездарного и неблагодарного физического усилия капал с бровей на щеки — пот, а не слезы. От духоты и нервного напряжения он обливался потом до такой степени, что, казалось, твидовая шкура на спине между лопаток взмокла и залоснилась, как у загнанного зверя. Мучительный маскарад оказался, однако, напрасным: на отце тоже красовался твидовый пиджак и даже аналогичные вельветовые брюки. Эту аналогичность его вида Алек воспринял как алогичность миража. Он выплывал из парилки вокзальной толкотни как искаженное отражение самого Алека — со сдвигом во времени в выщербленном потускневшем зеркале, как из соседней комнаты, отделенной тонкой перегородкой в пятнадцать лет. И лысина побольше, и патлы все до единого волоска седые, и животик сильней нависает над ремнем, и общая скособоченность раздутой фигуры заметней, — но Алек узнавал себя в каждой детали: карикатурность самопародии, вплоть до твидового пиджака.
«Ты где это пиджак такой отхватил?» — поинтересовался Алек, потеревшись формально щекой об отцовские губы. Намеренная фамильярность тона была попыткой придать встрече атмосферу необязательности, как будто они только вчера расстались. Отец глядел на него пристально, не мигая: то ли вот-вот расплачется, то ли завопит от ужаса — как будто на него замахнулись и сейчас очень сильно и больно ударят по лицу.
«Да у нас, знаешь, тоже производят такие пиджаки, — ответил папаша, выдохнув из своих легких сдавленную паузу. — В Прибалтике кооперативщики откуда-то берут. Мне достали. Чего это у тебя такая скептическая ухмылочка?»
«Ну, во-первых, Прибалтика — это не у вас, а в Прибалтике; а во-вторых, твид, конечно, не тот», — пробормотал Алек, пощупав пиджачный ворс.
«Чего же в нем такого не того?»
«Да это не твид. Это подделка. Через месяц твой пиджак в тряпку превратится».
«Ну, а у тебя, твид этот, что же? Натуральный? — он осторожно, как будто до оголенного провода, дотронулся до рукава Алека. — На вид-то твой твид ничем не лучше».
«Вид, может, и тот же. Твид другой. Но ты в этом пока ничего не понимаешь».
«Ну вот, опять я, видишь ли, ничего не понимаю. Помнишь в детстве мой синий пиджак? Мы с мамой тебе из него еще форму школьную скроили. — Буквально с первой же секунды встречи он стал предаваться воспоминаниям. — А знаешь, откуда этот пиджак? Это был мой первый пиджак. После окончания университета. Это когда отец — ты помнишь дедушку, аптекаря? — когда отец съездил в командировку, в Прибалтику опять же, между прочим, — он там медикаменты закупал для советского правительства, если не ошибаюсь, — и привез вот мне костюм. Синего сукна. Помнишь?»
«Так в чем история? Ну пиджак, да, а дальше что?» — раздраженно спросил Алек.
«Чего дальше? Куда дальше? Я же тебе объяснил, откуда у меня первый пиджак появился, синего цвета, суконный».
«Ну и что? Пиджак. При чем тут пиджак? Ничего не понимаю». Он нервным жестом запустил пятерню в свои редкие седоватые клочья на голове, зачесывая их назад и вбок — инстинктивно пытаясь скрыть наметившиеся проплешины.
«Опять ты ничего не понимаешь. Я тебе рассказываю, откуда взялась твоя первая школьная форма. А ты ничего не понимаешь».
Алек в ответ раздраженно передернул плечами. В этой, как и во всех вообще отцовских историях, была лишь видимость логики и связности, сродни гоголевской шинели и тришкиному кафтану: цель тут оправдывала средства — выдумать некую семейную легенду, создать атмосферу родственной близости. Это и было для Алека самым чудовищным в этом визите: отец будет предаваться воспоминаниям и требовать эмоциональной солидарности.
«Чего мы здесь стоим?» — проговорил Алек, вытирая пот со лба тыльной стороной ладони, как бы отметая эту жалкую отцовскую попытку реабилитировать общее с сыном прошлое.
«Я не знаю, чего мы здесь стоим. Тебе знать, куда тут в Лондоне идти. Ты тут лондонец. Тут у вас вокзал — размером с город. У нас, правда, тоже сейчас транспортная система расширяется. Много новых станций метро. Но тут, как у нас говорят, без поллитры не разберешься».