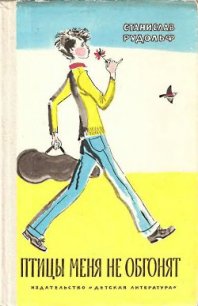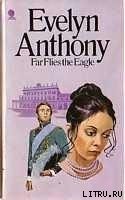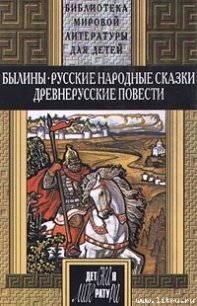Птицы летают без компаса. В небе дорог много (Повести) - Мишкин Александр Дмитриевич (онлайн книга без .TXT) 📗
— Ой, не говорите! — махнул тот рукой. — Мухолов!
Напряжен до предела. Труп трупом. Легче медведя научить.
Характеристика яркая и четкая: на Луну не примут. Хотя после нее командир звена не прочь был меня туда и отправить. Зачем учить мухоловов? Пусть лучше они своим делом занимаются. Бывает ведь так. Для одного человека, чтобы составить свое мнение о книге, надо прочесть ее от корки до корки, а для другого — достаточно и короткой аннотации на эту книгу. Командир звена тогда и воспользовался «аннотацией».
Полетели. И только самолет отделился от земли, как слышу голос командира звена в наушниках:
— Скорость, скорость смотрите.
Голос не такой нудный, но все-таки… Глянул на прибор скорости. Качнул раз-другой ручкой управления — стрелка стала на место.
— Высота, за высотой смотрите.
Вот, черт, высоту упустил. Гоню стрелку вариометра в набор высоты. Перебрал малость — скорость стала падать.
На первых порах такое случается. Самолет идет устойчиво, ровно, так уж его конструктор отрегулировал. Но вот начинает вмешиваться в управление курсант, и стрелки приборов, вроде бы увидев перед собою неопытного пилота, со страху разбегаются. Особенно когда курсант очень и очень старается, хочет показать такое совершенство, которого он еще не достиг. «Гоняется-гоняется» за стрелочками приборов и не поймет: что они ему показывают? А они ему показывают, что выгонят скоро этого курсанта из училища.
— А обороты? — опять спросил меня командир звена.
«Сам вижу… Обороты… обороты… Нá вот, прибавлю тебе оборотов…» — огрызнулся я мысленно и двинул сектор газа вперед.
— Шарики-то надо в центре держать, — подсказывает вторая кабина. Не кричит, говорит спокойно. А мне плевать, как он говорит. Ошибка на ошибке. Сижу как побитый, живого места на мне нет, весь перебинтован — и руки и ноги. Куда такому самостоятельно?
«Ах, шарик! Шарик-шарик, где ты был? На Фонтанке…» В отчаянии пихаю одеревенелой ногой педаль. Шарик бежит на место, но место свое проскакивает и забивается в угол.
«Действительно, мухолов…» — говорю я себе. Я тогда не знал названия атому чувству. Но это был не страх. Позднее, читая психологию, я узнал, что такое состояние курсанта называют «летной застенчивостью». «Красивое, поэтическое название», — сказал я тогда. А командир звена после полета сказал другое:
— Выпускать самостоятельно вас нельзя. Не могу просто. Уверен, напортачите. Пусть командир эскадрильи решает.
Я и сам был убежден, что он меня не пустит. Куда там? «Вот уж с комэском-то я слетаю», — пообещал я себе и опустился в кабину самолета, в котором уже сидел командир эскадрильи. Его курсанты любили, он многих выпустил самостоятельно. Может, и я полюблю.
После взлета ни звука: значит, все идет как по маслу. Я сразу приободрился, свободно на парашютном ранце подвигался. Хорошо-то как на душе. Зона техники пилотирования под крылом, а командир молчит. Такого еще не было, даже неприятно от этой дурной тишины. Я уже было хотел пилотаж выполнять. Но тут почувствовал: голова моя затряслась, задергалась, вроде бы ее электрическим током ударило. Оглянулся. Перед глазами разгневанное лицо командира эскадрильи, в руке он держит провод от моего шлемофона с колодочкой, которая, видать, отсоединилась, когда я ерзал на парашюте. «Так вот почему тихо было, я комэска не слышал… Это ж надо! И что мне так не везет? В самом начале полета. Теперь хвостом назад не пойдешь, на место не станешь, не повторишь. А-а, хоть заповторяйся…»
Подключил колодочку, а успокоиться не могу. Досада в горле боком стала, не проглотить никак.
Полез на петлю Нестерова, Тут комэск меня и спрашивает:
— Осматриваться за вас кто будет?
«Забыл осмотреться — новая досада, а еще и та не проглочена. Да чего уж осматриваться, если без радио летел и не чухался… Какой из меня летчик?» Для проформы покрутил головой, как лошадь, которую намереваются ухватить за морду. Пошарил по небу глазами — пусто Кругом. С таким настроением не то чтобы узреть в белесом небе капелешный самолет — мать родную не сразу разглядишь.
— Крен, крен уберите…
Говорит командир уже спокойно, вежливо. Излишне тут интеллигентничать. Разгневанное лицо комэска уже насмерть напугало. В жизни не забуду.
«Да, вижу, вижу крен! Уберу! Могу руки и ноги убрать. Не нужны они мне. Инвалидом стал», — злюсь я на себя, на подсказку командира и на весь белый свет. Сличаю линию горизонта с размахом крыльев, вывожу самолет из крена. «Ну как же это меня угораздило с этой связью? И чего ерзал? На иголках, что ли, сидел?» Идут и идут мысли, тяжелые, словно под конвоем, даже слышно, как кандалами гремят. В этот момент горизонт под хвост самолета ушел, я ослабил ручку, и машина моя зависла вверх животом. Управление стало вялым: штурвал от борта до борта ходит, будто все расцепилось разом. Штопор, значит! Только этого мне и не хватало! Тоже, уши развесил: связь, связь. Вот тебе и связь! Но штопора не вышло. Комэск зашуровал ручкой и педалями. Я только закачался в кабине, словно мне искусственное дыхание делали. Самолет клюнул носом, строптиво покачался и бултыхнулся вниз.
— Пилот называется! — пробурчало радио. — С меня хватит, домой пошли.
«Доконал и этого…»
Подвел я машину к земле, но сажать не пришлось. Командир сам посадил. Даже чуть-чуть «скозлил» — злость с умением не в ладах.
— Нет, мил человек, — сказал он, вылезая из кабины. — Я еще летать хочу, а вы штопорить норовите. На том свете не полетаешь, хоть на сто метров вместе с самолетом в землю сыграешь. Если самостоятельно в штопор сорветесь и к земле пойдете — вам не позавидуешь.
«Что же тут завидного?»
— Объема внимания у вас не хватает. Нет, нет… — поморщился он, — я летать хочу.
Комэск махнул рукой и пошел в кусты, которые находились на краю аэродрома…
Гляжу ему вслед и не могу сдвинуться с места, к аэродрому прирос. «Он, видите, летать хочет, а я не хочу будто. Я тоже хочу, но у меня пока не получается. Объема внимания не хватает? А у самого-то много этого внимания? Человека не видит». Конечно, мое внимание еще не расширилось до того, чтобы разом видеть все приборы. Я, наверное, гляжу на них, как на толпу девушек, — замечаю только ту, которая мне больше нравится.
Оставалась последняя инстанция — инспектор училища по технике пилотирования. Правда, надеяться на эту инстанцию — дело гиблое. Против меня уже три голоса. Но человека можно лишить всего, кроме надежды. Утопающий и за соломинку хватается.
В тот день я ждал прилета инспектора, ждал своего часа. Белесое небо было натянуто туго, высоко пестрели тонкие облачка, точно накрапы плесени. Солнце пекло беспощадно. Мозги мои совсем расплавились, безразлично стало: с кем лететь, куда лететь, зачем лететь? Можно на чертовой колеснице с самим Ильей пророком в тартарары. Ждал, маялся на старте. Обидно — хоть по траве катайся. И горем поделиться не с кем, у всех свои заботы. Подошел Потанин. Потоптался на месте. Хотел что-то сказать, но не сказал. Но меня и не надо утешать, сам знаю, что гусь свинье не товарищ. Лучше уж в собственном соку вариться.
А вот из-за абрикосовых садов показалась черная точка. «Он!» — с тревогой думаю я, и от слепящего солнца аж глаза слезятся.
Самолет приземлился, подрулил к командному пункту, летчик вылез из кабины и размашистой походкой направился к руководителю полетов. Вскоре по лестнице спустилась целая делегация: инспектор, командир звена, комэск и сзади — инструктор.
Подхожу к ним. Руку бросаю под висок:
— Курсант Стрельников!
Инспектор глядит на меня, как на столб, который неожиданно возник на дороге: не сбить, не объехать.
— Здравствуйте, товарищ Стрельников, — говорит и выпрямленную ладонь тянет, будто пистолет в живот направляет.
— Здравия желаю!
— Как самочувствие? — спрашивает.
— Плохое, — отвечаю. Понимаю: жаловаться тут бесполезно — для порядка спрашивает.
— Чего так?
«Вот человек… Зачем прикидывается…»
— Что же вы, не знаете? Откуда оно возьмется, самочувствие? С неба, что ли, упадет? — говорю. Гляжу нахально: мне терять нечего.