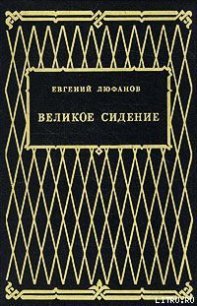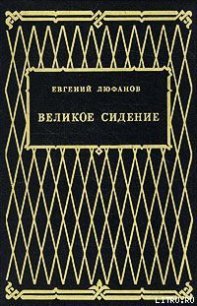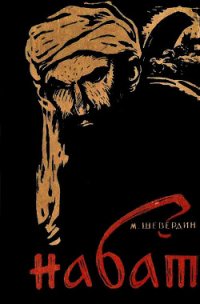Набат - Люфанов Евгений Дмитриевич (е книги TXT) 📗
— Чего? — с настороженной строгостью спрашивает Ксюша, на всякий случай стараясь освободить свою руку, и, когда он объясняет ей значение непонятных слов, несколько успокаивается. — Вы бы сперва мне какую-нибудь картинку свою подарили, чтобы посмотреть, — с застенчивым смешком говорит она. — Это мы, Полкан, мы... — останавливает выскочившую собаку, собравшуюся побрехать от скуки.
Полкан виляет хвостом, косо поглядывая на чужого, а Егор, Егорий, Георгий Иваныч, полный надежд, на прощание целует руку у Ксюши.
— Нешто можно так!.. — вспыхивает она, и сердце колотится у нее изо всех сил.
— Как кавалер, — отвечает он и приподнимает над головой котелок.
В домах давно погашены огни, уснули и собаки. Только издали доносится чья-то пьяная песня, дичая во тьме. Скоро пропоют первые петухи.
Зорями рождаются дни, зорями умирают. Покосными медвяными травами исходит июнь, и холодные самоцветы росы играют солнцем. Дурманные июньские запахи душат Ксюшу в предутренних снах. И чудится ей: Егор... ну, этот... Егорий Иваныч рисует на холсте реку, берег, и на берегу, у кустиков ивняка, белеет Ксюшина рубашка, а сама Ксюша, по-русалочьи распустив косы, стоит, плещет порозовевшей на заре водой, и вода стекает, искрится росой на плечах, на груди... За окном в палисаднике цветут травы и в раскрытые створки за занавеску проникает к изголовью Ксюши июнь, и жарко, и душно, и сны такие оттого все, что пора Ксюше замуж.
Как-то в сумерках каталась с подружками на лодке, а Егорий Иваныч по берегу шел — с тросточкой, в котелочке. Издали крикнул:
— Перед добрым вечером, Ксюшенька!
Ксюша зарделась, а подружки тихонько хихикнули.
— Он из Калуги приехал, картины рисует всякие. И божественные, и про людей, — преодолев смущение, похвасталась Ксюша. — Меня все срисовать просится.
Подружки и верили и не верили, удивлялись:
— Их ты какой!..
Егорий Иваныч по берегу гулял, Ксюша на лодке каталась, а дома у нее родители со стариками Труновыми второй штоф распивали, заканчивая Ксюшину девичью жизнь.
— Так оно дело верней будет, а то этот аптекарский вертихвост девке голову скрутит да еще до греха доведет. Пропили теперь и — шабаш, — удовлетворенно сказал Михаил Матвеич.
...В кулачках на лугу за кузницами, в гуляниях по набережной, заплеванной подсолнечной шелухой, и в долгих часах сытного сна проходила праздничная жизнь горожан. Тогда можно было послушать пьяные песни, ругань и визги баб, над которыми мужья учиняли очередную расправу, а когда наступал снова будничный день, было скучно. Долго зевалось, тупо ныло все тело, тяжелела с похмелья голова.
Редко что выделялось в жизни, и редко кто из горожан решался всколыхнуть привычную тишь да гладь, устоявшуюся на подворьях ближних и дальних соседей. Как-то портной Илларион Фортунатович Шамордин, то ли спьяну, то ли со скуки, вспорол ножницами свою жену; перевернулась на реке лодка, и сразу пятеро утонули; на кладбище влюбленная парочка натолкнулась на повесившуюся сухорукую нищенку; среди ночи сгорела обветшалая пожарная каланча... Каждый из этих случаев на день, на два, а то и на неделю будоражил жизнь горожан, а потом она затихала опять.
В двух верстах от города — станция. Оттуда доносятся до горожан приглушенные гудки паровозов; летними вечерами ходят туда городские кавалеры и барышни, прогуливаются по платформе. С нескрываемой завистью смотрят они на пассажиров, а потом — вслед поезду, пока последний вагон не скроется за поворотом.
За станцией вкривь и вкось разбросан железнодорожный поселок; в нем живут рабочие паровозного депо, станционные служащие. Здесь время отмечается приходом почтового, курьерского и «дешевки», но все так же привычно и однообразно, как потрескивание телеграфа, как удары станционного сторожа в колокол и повторяющиеся изо дня в день его хриплые выкрики:
— Рязань — Москва... Второй звонок!.. Поезд стоит на первом путе!..
В городе — почта, казначейство, суд, полицейский участок, тюрьма.
В казенных заведениях в девять часов утра, отсморкавшись, протерев очки, раскрывают чиновники свои бумаги; на базар съезжаются мужики из окрестных деревень и сел; мальчики из магазинов открывают тяжелые ставни, протирают стекла витрин, — в городе начинается жизнь. Брешут собаки, облаивая каждого прохожего и гоняясь за редким лихачом.
В городе — старинная, заведенная дедами и прадедами жизнь. Спокойно и сытно в этом миру и ладу; ни обойти, ни объехать застоявшейся уездной тишины. Только скулы болят от частой зевоты. Не скоро голова поседеет, смерть позабудет прийти...
Все это было еще недавно. И вдруг привычный покой горожан оглушило устрашающей вестью: голод!
Четыре дня бушевал над городом, над окрестными полями, деревнями и селами не виданный никем ураган. Извиваясь и зловеще шипя, по земле торопливо переползали песчаные змеи. Они свивались в клубки, разрастались и стремительно вскидывались в небо туго скрученными смерчами, чтобы потом обрушиться вниз шумным шквалом перемешанного с землей и пылью песка.
Развеялись закрывавшие солнце пыльные тучи, ослабли ветры и прояснилось небо, не уронившее ни капли дождя. Покрытая серой пеленой, опаленная беспрестанными суховеями, земля потрескалась глубокими трещинами. Не успев зацвести, пожухли и погорели травы. Широкие крылья беды распростерлись над всей землей. Случались и прежде большие и малые недороды хлебов, но такого лихолетья не помнил никто.
Схоронив отца, Фома Дятлов крепко задумался. Какую ссыпку хлеба придется делать в этом году? У кого скупать?.. Какие гурты скота перегонять и куда?..
— Пустыня азиатско-сахарская на нас движется, — вещал на базаре какой-то приблудший старик. — Погребены под песками будут села и веси и стольные города. Не стало лесов — защиты земной, овражными морщинами посеклось лицо кормилицы нашей...
Посмотрел Фома на неведомо откуда забредшего вещуна напастей и бед и поманил к себе городового.
— Наблюдать надо, а не только усы свои теребить, — выговорил ему. — Не слышишь, что ль, какое смутьянство разводит? Пачпорт проверь и вообще...
Голодом, холерой, смертями настиг растерявшихся людей 1891 год. Не довелось им поесть нового хлебушка, а старый давно уже кончился.
Чтобы спастись от неминуемой голодной смерти, крестьяне закладывали и продавали за гроши богатеям свое имущество, скот, а затем, разоряясь все больше, бросая пустые избы и исхоженную с детства землю, кинулись в города, в надежде на заработки по заводам и фабрикам. В те дни волостные правления бойко работали по выдаче паспортов; одна за другой пустели, заколачивались избы, и у вымерших дворов кое-где еще выли чудом уцелевшие голодные собаки.
Из всех ближних деревень и сел потянулись в город мужики с навьюченными на спины узлами уцелевшего домашнего скарба, с женами и детьми. По мелочным лавкам, по базарным торговцам и магазинщикам закладывали и продавали холсты, полушубки, поневы и сарафаны, пилы и топоры, чтобы добыть денег на билет и потом — в дальний Питер, в Москву, Иваново-Вознесенск — трястись на переполненной «дешевке», ища себе доли.
Из окна своей лавки видел Фома Дятлов, как по улицам тянутся к станции отправлявшиеся то в Сибирь на новые земли, то в помещичьи хозяйства, на фабрики и заводы, в рудники, на строительные и другие работы. Ходили крестьяне по городским дворам наниматься на пилку и колку дров по семь, по пять копеек в день, хватались наперебой за любую возможность заработка. Бабы с детьми на руках бродили под окнами, выводя сдавленными голосами:
— Подайте милостыньку, Христа ради... Кормильцы вы наши, заступники...
Иногда Фома подзывал к себе мужиков и расспрашивал их:
— Куда ж двигаетесь?
— А куда, батюшка... Все равно куда... Мы бы и тут остались, только б...
— Что — только?
— Хлебца б нам, батюшка, хлебца бы... Работенки какой... К себе не возьмешь? Уж на совесть, на страх бы работали...
— Я не про то, чтоб к себе... Вообще я... В Сибири, что ж, легче, значит?