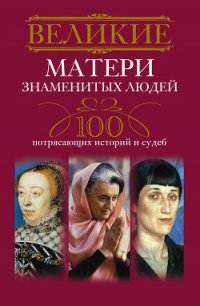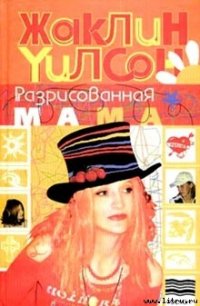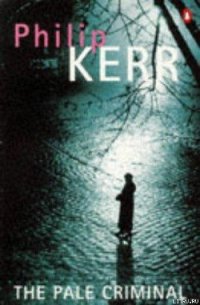Великие голодранцы (Повесть) - Наседкин Филипп Иванович (книга бесплатный формат txt) 📗
— Ну хватит, — досадливо махнул Рябиков. — Садись, дед. Тебя выслушали. Послушаем кого другого…
От окна отвалился Костопаров, один из богачей Карловки, переступил валенками, словно утверждаясь на ногах, и нетерпеливым движением расправил бороду.
— Сообща оно, можить, и сподручней. А тольки, как же это можно сопоставить? Чтобы справедливость соблюсти. Вот возьмем, к примеру, меня и кого-то из безлошадных. И что ж тодыть получится? Я на своих лошадках буду пахать, сеять, скородить, снопы с поля таскать и прочие дела делать. А безлошадник в то время станет чем заниматься?
— Безлошадник в это время будет делать другое, — решился я восстановить свой пошатнувшийся авторитет. — Полоть сорняк, косить, снопы вязать, молотить.
Костопаров окинул меня снисходительным взглядом.
— Полоть, косить, вязать, — повторил он, наигранно улыбаясь. — А ежели я все это сам с сынами и невестками могу? В таком разе как быть?
— В таком разе как хотите, так и поступайте, — разошелся я. — Уж вас-то никто силком в артель не потянет. Обойдемся и без ваших сыновей и невесток…
— Ах даже так-тось! — воскликнул Костопаров, сделав обрадованный вид. — Ну, тоды благодарствуем. И вопросов больше не имеем…
Костопарова сменил Гришунин, тоже видный карловец, владелец крупной пасеки. И этот не скрыл беспокойства. И, сравнив себя с многодетным бедняком, заключил, что тот, бездельничая, припеваючи будет жить в артели. Семен Палыгин, хромой сапожник и отец десятерых детей, приняв укор на себя, матерно выругался и заявил, что ни за какие деньги не согласится объединяться с костопаровыми и Гришуниными.
— Еще надо посмотреть, кто больше бездельничает. А потом уж и оскорбление наносить. А то ответ держать придется.
А потом наступило молчание. Никто ни о чем не спрашивал, ни о чем не говорил. Мужики беспрестанно сопели цигарками, а бабы вызывающе поджимали губы. Будто сговорились играть в молчанку и сорвать сходку.
Рябиков много раз просил высказываться, но ответом было упорное молчание. И тогда он достал тетрадь, разгладил ее на столе и, послюнив карандаш, сказал:
— Не желаете говорить, будем записываться. Вступаю в ТОЗ первым. — И аккуратно вывел в тетрадке свою фамилию. — Кто следующий?
Вторым записался Семен Палыгин. За ним подали голоса еще трое безлошадников. И снова молчание.
Я глянул на отчима. Согнувшись, он прикрывал лицо ладонями, будто стыдясь чего-то. Я перевел взгляд на мать. Она, наоборот, сидела прямо и не отрывала от меня глаз. И тогда я громко сказал:
— Записывай и меня…
Рябиков записал и мою фамилию. На середину вышагнул дед Редька.
— А ты что ж, мил-друг, никак всей семьей идешь?
— Нет, — ответила за меня мать. — Он записал себя. А мы пока что подождем.
— А как же со стригуном-то? — не унимался Иван Иванович. — В артель отдадите аль при себе оставите?
— Ничего не дадим, — отрезала мать. — Пусть идет голый. И наживается вместе с артелью. А мы свое нажили сами. И никому ничего не отдадим… — Она встала, накинула на голову платок. — Вот и весь сказ. А теперь прощевайте. Хватит воду в ступе толочь…
Она вышла. За ней встали другие бабы. За бабами потянулись мужики.
Проходя мимо стола, отчим, не подняв глаз, проговорил:
— Правильная ваша затея, ребятки. А только народ пужается. И Прасковья Ивановна покамест ни в какую. Ни на что не поддается. Ни на какую агитацию…
И вот мы остались одни. Рябиков, Палыгин, я и трое других безлошадников. Долго молча смотрели друг на друга, будто виделись впервые. Потом Костя сказал:
— Начало положено, товарищи! Оформим артель. Назовем, как и хутор, именем Карла Маркса. Никто не против? Считается принятым. А теперь изберем председателя. Называйте кандидатуру…
Мы хором назвали его. Он кивнул, точно благодаря, и подытожил:
— Итак, ядро социализма зародилось и у нас. Теперь начнет расти и развиваться. Как плодовое дерево в хорошей почве…
Я не сомневался, что мать снова выгонит меня из дому, и перебирал в уме знакомых, где можно бы приютиться. Теперь я уже не чувствовал страха, как год назад, и не собирался прятаться.
Но мать не выгнала меня. Она только с нескрываемой горечью сказала:
— Живи как знаешь. Сам по себе. А мы сами по себе. И на нас не надейся. Чужой ты нам. Постоялец…
И, не желая слушать меня, вышла из хаты. А отчим, когда за ней закрылась дверь, попыхтел трубкой и сказал:
— А ты не горюй, сынок. Мать, известное дело, расстроилась. Тяжко смириться с твоим отколом. Но ТОЗ этот самый вы образовали не напрасно. Я вот подумал и решил… Пора и нам начинать ломку. Хорошую жизнь никто на блюдце не преподаст. За нее, как видно, придется драться. А драться с пользой можно только сообща. То есть, значитца, коллективно. Так что верное приняли решение. И пусть он, ваш ТОЗ, покамест не ТОЗ, а «тозик», все одно — великое дело. Минет время, и артель разрастется. И всех нас объединит. Всех до одного. И мать наша пойдет. Как увидит, что не подвох, так и потянется. Она ж себе не лиходейка. А покамест надо подождать. Требуется время. — И, вздохнув, покачал головой. — На многое требуется время. И на то, чтобы ТОЗ образовать. И на то, чтобы кулаков одолеть. И на то, чтобы с отсталостью нашей покончить. На все требуется время. Даже на то, чтобы понять это самое время. Ну, значитца, в какое живем. И уж придется набраться терпения. Другого выхода нет…
Однажды в селькрестком явилась Домка Землякова. Без приглашения опустившись на табурет у стола, она широко улыбнулась и подмигнула мне раскосым глазом.
— А я к тебе, председатель. Хлеб весь вышел. Последние крохи доедаем. Вызволи, председатель. Христом богом прошу.
С безотчетной тревогой я пододвинул к себе бумаги, боясь, как бы она не сцапала их.
— А самогонкой, что ж, уже не промышляешь? Это ж доходная статья.
Домка тяжело вздохнула и болезненно поморщилась.
— Лапонина-то посадили. Вот и статья лопнула. Как мыльный пузырь. Так что лишилась доходу.
— Кроме Лапонина, есть и другие винокуры.
— Других не знаю. Не связывалась. Только Лапониным кормилась. А теперь кормежка кончилась. Все, что заработала, истратила. Ни гроша, ни зернышка. Хочь клади зубы на полку.
По ней не видно было, что она нуждалась. Краснощекая, грудастая, она выглядела цветущей молодкой. И глаза настырно блестели. В крестком чуть ли не каждый день приходили бедняки. Больше всего это были вдовы. Прося помощи, они плакали, стонали. А эта не плакала, а улыбалась. И улыбалась так, будто пришла не хлеба просить, а в гости звать.
— Ну, так как же, председатель? Пудиков пять бы. И мукой, понятно. А то этот дьявол, Комаров-то, за помол уж больно дерет. Ну, вызволяй, председатель.
— Не могу, — сказал я, почему-то испытывая раздражение. — Не располагаю возможностью. Да и вряд ли ты нуждаешься.
— Ей-богу, нуждаюсь. Вот те крест. — И небрежно перекрестилась. — Нужда уже на плечах. Давить начинает. Ну, отпусти, председатель. Пудиков пяток. Двое ребятишек. Да и самой жрать надо. — И, воровато оглянувшись на дверь, подалась ко мне. — А я уж отблагодарю. Зайдешь как-нибудь, бутылочку разопьем. Самого крепкого достану.
Я чувствовал, как загораются мои уши. Хотелось надавать ей по щекам и выгнать вон. Ничего другого нахальная вдова не заслуживала. Но я сидел неподвижно, как пригвожденный к месту. И ничем не выражал негодования. Она была еще и кляузной, эта Землячиха. И несладко приходилось тому, кто попадал ей на язык.
— Ну, так как же, председатель? — спросила Домка. — Поладили?
— Нет, не поладили, — набрался решимости я. — Самогонка твоя не требуется. Угощай кого-либо другого. А я тебе неподкупный. Хлеба не дам. Ни за что не дам.
Домка обиженно поджала губы. А потом спросила:
— Что за причина, председатель?
— Я уже сказал, — пояснил я. — Не такая уж ты беднячка.
— Как это не такая? — возмутилась вдова. — Двое сирот. Мужа в гражданку потеряла. Ни кола, ни двора нет. Хата и та подпорок просит. Какую ж тебе еще беднячку?