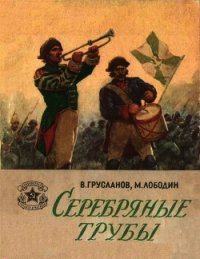Нагрудный знак «OST» - Семин Виталий Николаевич (читать книги онлайн регистрации .txt) 📗
Это был, конечно, самый важный урок из тех, которые преподнесла мне жизнь в лагере. И я не «потом», не через много лет, а тогда же это понял (хотя, конечно, теперь я лучше понимаю, каким чудом был этот наш тифозный лагерь).
– Ну, теперь ты пойдешь,– сказала мне Софья Алексеевна.– Еще лучше научишься ходить. Как тебя зовут? Сергей? Теперь я в тебя верю.
– А вас не заберут? – спросил я.
– Ты же взрослый,– сказала она мне.– Могут забрать.
Подошла Мария Черная. Вдвоем они уложили меня на койку, и я почувствовал прилив жара. Но это был не температурный жар, а жар слабости, физического усилия.
Мария смеялась. Сказаны были все шутки:
– Плясать будет.
– На свадьбе!
– Он из лагеря бегал. Ему быстрые ноги нужны!
Софья Алексеевна стала серьезней.
– Бегал?
Я кивнул.
– Поймали?
– Да.
Я почувствовал какой-то интерес, потянулся к нему.
– Били?
– Руку сломали.
– Я не знала. Какую? Ну-ка покажи.
Она присела на койку, а не на табурет, взяла руку, помяла кисть, потянула, согнула руку в локте.
– Работает?
– Плохо разворачивается,– сказал я. Мне хотелось, чтобы она дольше сидела рядом, дольше мяла мою руку. Но она вдруг поднялась.
– Вот видишь, какой ты строптивый. И болел строптиво. Недаром мы с тобой помучались.
Сказала суховато, как бы отстраняясь. Словно решила, что слишком размягчилась со мной.
Они ушли с Марией. Мария задержалась в дверях, состроила гримасу, показала, как Апштейн грозил пальцем: «Саботаж!»
А для меня началось выздоровление. Возвращалось желание двигаться. Но и от самой слабости своей я стал получать радость. Как в детстве, ко мне, лежащему на койке, все приходило само. Ночью подходила дежурная сестра: «Звал? Спи…» И возвращалась туда, где кто-то не спал, где шли долгие ночные разговоры. И, как в детстве, разговоры взрослых заинтересовывали и успокаивали меня. Жизнь в этих разговорах была долгой, наполненной событиями, которые со мной еще не происходили. Сама длина этой жизни успокаивала. Опять подходила сестра: «Не спишь, отоспался?» – и опять торопилась к разговору, который ей был еще более интересен, чем мне. Утром подступал свет, появлялась умытая Мария Черная. И, наконец, приходила Софья Алексеевна. Ждали ее с тревогой: придет или не придет?
В эти дни не то чтобы отошло, а как-то изменилось отчаяние. Перестало быть омертвляющим.
На второй день я оторвался от койки и удержался на ногах. И соседям было интересно, как я пройду несколько первых шагов.
В это же время выписали первую партию выздоровевших. Здоровых, помогавших сестрам стирать, дезинфицировать одежду тифозных, поднимавших на второй и третий этажи термосы с баландой, было уже человек десять. Однако выписывала Софья Алексеевна только четырех. Все это были пожилые люди. Они пришли попрощаться. Принимали записки в лагерь. Благодарили Софью Алексеевну, сестер. Но с Марией Черной попрощаться не смогли. Мария лежала на третьем этаже в тифозном бреду. Впервые я видел Софью Алексеевну смущенной. Она говорила уходящим в лагерь:
– Не болейте. Старайтесь не болеть.
Кивала, когда ее благодарили. Все понимали, что появление полицейских в лагере не могло пройти бесследно. Но почему выписывали этих четверых? Наверно, сама Софья Алексеевна не смогла бы этого объяснить. Поэтому она и смущалась.
– Кого-то надо было,– объяснил мой сосед.
Кто– то предположил:
– Старики! Сами попросились. Привыкли работать.
Кто– то оскалился.
– Тебя не трогают? Лежи!
Потом Софья Алексеевна объявила, что теперь первый этаж отводится для выздоравливающих. Для тех, кто проходит карантин.
Все поняли, первый этаж – ближе к выписке.
Софья Алексеевна сама объявила, кто остается на первом этаже. Мне она сказала:
– Ты еще болен.
На втором этаже я сразу увидел Андрия. Он сидел на койке, смотрел, как распределяют новичков с первого этажа. Я крикнул:
– Андрий!
Он не услышал и не понял, кому я машу рукой. Рядом с ним было свободное место. Я попросил, чтобы меня положили туда. И только когда меня подвели, он как бы нехотя, не доверяя себе, узнал меня.
– А говорили, ты умер,– сказал он мне своим гнусавым голосом. И гнусавость показалась мне родной.
– Андрий! Где Володя?
– Володя болен,– сказал Андрий безнадежно.
– Где он?
– Болен,– все так же сокрушенно сказал Андрий. И тут я увидел Володю. Его койка стояла ближе к окну. Смуглое Володино лицо как будто покрылось траурным болезненным загаром, а десны побелели. Я видел эту улыбку, но принял ее за гримасу бредящего человека. Володя слышал, как я кричал Андрию.
– Жив? – сказал я.
– Ничего,– ответил Володя.– С Андреем давно не разговаривал. Кричать не могу.
– Давно здесь?
– Там все написано,– слабо кивнул Володя на спинку койки, с обратной стороны которой был прикноплен температурный лист.– Скажи Андрею, пусть даст воды.
Я было потянулся за водой. Но Володя остановил меня:
– Скажи ему.
– Андрий,– крикнул я Андрию, ревниво прислушивавшемуся к нашему разговору,– Володя просит воды.
Андрий подхватился и, страдальчески гнусавя, отводя глаза, сказал:
– Ему нельзя разговаривать. Он болен.
Пока Володя пил, он поддерживал его. Сказал с просительной ревнивой хрипотцой:
– Тебе низко? Я тебе свою подушку подложу. Мне не нужно.
– Не надо, Андрей,– сказал Володя. Но Андрий, будто не услышав, взял свою подушку.
Володя сказал мне:
– Скажи ему, что мне не нужно, что мне будет неудобно.
Теперь к Андриевой смущенной гнусавости прибавился ревнивый клекот.
– Ему низко,– объяснил он мне.– У него температура. А мне не нужно. Я днем не сплю.
Он отворачивался от меня. Не мог справиться с ревностью и смущением. Подушка осталась у него. Но он долго не мог успокоиться. Вновь принимался за свое:
– Воло-одя!
Володя слабо махал рукой, Андрий возвращался на место, говорил со старушечьей сварливой убежденностью:
– Не жалеешь себя. На других смотришь. А ты о себе подумай. Какое тебе дело до других!
Володя сказал мне:
– Стефан здесь. И папаша Зелинский. Найди его. Андрею недокричусь. Не захочет услышать, говорит: «Не слышу. Не понимаю». И все.
Стефана я нашел быстро. Его давно уже перевели на второй этаж. Лицо его заросло щетиной, но не осунулось, не похудело, а как бы даже опухло. Поляки держались дружно. Из лагеря Стефану постоянно приходили передачи. Он сидел на койке, объяснял соседу, почему не бреется. Кожа на лице воспалилась.
Я поздоровался, спросил, как здоровье. Сосед, с которым Стефан только что разговаривал, засмеялся:
– Еще Польска не сгинела!
Стефану шутка не понравилась, но он покивал мне, улыбнулся. Чувствовалось, что расспросы соседа о том, почему он не бреется, ему тоже не нравились. Стефан не мог определить, поддразнивают или спрашивают серьезно.
Он показал мне койку, на которой лежал папаша Зелинский. Папаша Зелинский разговаривал с соседом.
– Боятся все,– говорил Зелинский.– Страх – дело обычное. Дело в том, как к своему страху относишься. Нас тут всех испытывают страхом. Можно с ним ужиться?
– Есть страх благодетельный,– сказал сосед.
– Не от разной веры мы с вами идем,– сказал Зелинский,– от разных ощущений. Если страх противен, с ним невозможно ужиться. Рано или поздно вы постараетесь от него избавиться.
Зелинский словно бы видел не собеседника, а слова, которые тот произносил. Человек мог быть глупым, неприятным, мог раздражать. Но слова папашу Зелинского никогда не раздражали. Прикрыв тяжелыми веками выпуклые глаза, пофыркав простуженным носом, он с одинаковой сосредоточенностью отвечал и глупым и умным, и тем, от кого в лагере просто отмахивались. Это была удивительно сильная, завораживающая меня манера разговаривать. И сейчас папаша Зелинский разговаривал с тем самым верующим стариком, который жил в лагере молча.
– Молоток приобрел,– говорил старик,– к нему гвозди. Ты им уже хозяин. Приобрел тисочки – нужны наковальня и точило. Поступил заказ – ищешь помощника. Помощника нанял – нужен второй молоток. Молоток не справляется – придет кувалда. Вот оно как было всегда. Без собственности у человека кривая душа. Без собственности нет оседлости. Нет оседлости – нет страха. Оседлый человек боится соседа. Без этого страха нет стыда. Стыд и религия укрепляют души. Утратил оседлость – по-вашему, летун, а по-моему, кочевник. У кочевника душа ко всему холодеет. И к самому себе, и к государственному делу.