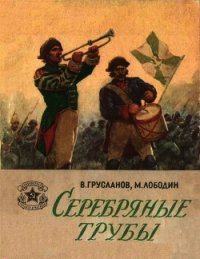Нагрудный знак «OST» - Семин Виталий Николаевич (читать книги онлайн регистрации .txt) 📗
Впервые Апштейн вошел в наше помещение вместе с новым старшим лагерным полицаем Фрицем. Фриц появился в лагере в самом начале сорок третьего года. Тогда же появились Бородавка, Перебиты-Поломаны Крылья, Поляк и еще несколько молодых полицаев. Все они побывали на восточном фронте, знали два-три десятка русских слов (Поляк говорил по-польски), приходили в лагерь в полувоенных мундирах. Левое плечо френча, который носил Перебиты-Поломаны Крылья, задиралось вверх, бледное лицо казалось напудренным, вместо левой руки протез в черной перчатке. Взгляд над головами, не замечающий, страшный. Такой человек раньше выстрелит, а потом скажет. И френч, и рубашка, и галстук, и сапоги такой чистоты и незамятости, будто на стул не присел, не по земле пришел, не этим воздухом дышит. Ни разу его не видели смеющимся или улыбающимся.
Бородавка был тонкоголос и истеричен. Мучился подозрениями, что о нем плохо говорят по-русски. На пересчете набрасывался:
– Вас гаст ду гезагт?
– Что ты сказал?
Голос делался нестерпимо высоким. Жертва вытирала разбитый в кровь нос (дрался жестоко, но почему-то не мог устрашить), а кто-то отвлекал его:
– Бородавку срежь!
Казалось, он обижался. Потом сдавался, уставал, приносил две-три сигареты, словно заключал перемирие, просил считать себя хорошим. Но тут же опять бил и бился в истерике, потому что кто-нибудь кричал за его спиной:
– Бородавчатый!
Его перевели полицаем в женский лагерь, но потом вернули к нам. Женщины держались с ним еще более дерзко, чем мы.
Опы были жесточе, равнодушнее, но и ровнее, чем эти недавние фронтовики, пришедшие в лагерь после ранений и госпиталя. Вначале им было любопытно и они как будто рассчитывали на наше любопытство. Спрашивали:
– Во фон?– Кивали.– Я, я. Их аух Минск…
– Откуда?
Фриц, который так и остался без клички, и Поляк, казалось, готовы были даже завести знакомства. Поляк перешучивался с поляками, подмигивал нам. То есть заходил так далеко, что ему приходилось оглядываться, не смотрит ли кто из своих.
Постоянные кранки раньше знакомились с новыми полицаями, видели их не во время пересчета, а в течение всего дня, замечали, как те вживались в новую форму, усваивали полицейские повадки, походку, интонацию.
В одно из первых своих дежурств Фриц поднялся на второй этаж, где в то время собрались ночники и кранки. Его не сразу заметили, вошел он как-то буднично. На нем была серая рубашка, френч он по-домашнему оставил в вахтштубе. Все замерли, потому что поздно было прятать или прятаться. Он остановился у стола, на котором стояла самодельная шахматная доска. Я проигрывал Леве-кранку. Мы тоже замерли, не знали, как отнесется к шахматам новый полицай. Фриц показал, что мой король долго не продержится.
– Ны?
Лева– кранк, хоть и выигрывал, тотчас уступил ему место. Фриц вопросительно посмотрел на него, на меня и стал расставлять фигуры. Не присаживаясь, сделал первый ход. Было видно, что с шахматами он почти незнаком. Сделал пять-шесть ходов и махнул рукой. Показал на голову -контужена. Покраснел и пошел к двери, не объяснив, зачем приходил.
Он был среднего роста, ходил небыстрой, неподгоняющей походкой, редко кричал. Лицом, повадкой, послегоспитальной усталостью, послеоперационной осторожностью, аккуратностью был будничен, обнадеживающе обыкновенен. Поляк на третий же день кого-то избил, Фриц никого не ударил, и за ним закрепилось – «незлой». Но вдруг мы узнали, что Пирек переведен в рядовые полицейские, а старшим стал Фриц. Это испугало – от Фрица меньше прятались.
Все это вспомнилось, когда Фриц, Поляк и Перебиты-Поломаны Крылья пришли к нам, тифозным. Мы услышали немецкую речь на лестнице. Софья Алексеевна побледнела, посмотрела на Марию Черную, на сестер и, как перед обходом, выпрямилась. Мария вдруг вздернула подбородок.
– Софья Алексеевна, я уйду! Я не выдержу, наговорю им…
И, не ожидая ответа, пошла к двери. Мы услышали стук ее каблуков и шаги полицейских, поднимающихся по лестнице. Софья Алексеевна не ответила Марии, не заметила, как та ушла. Она стояла спиной к двери, готовилась к утреннему обходу и не повернулась, не отвлеклась, не дала отвлечься сестрам.
За день перед этим на всех наших койках поменяли температурные листы. На новых листах температура у нас оказалась повышенной. Впервые все мы с Софьей Алексеевной были в заговоре. Все понимали, с каким напряжением она ждет немцев.
Она не пошла к ним навстречу, слегка повернулась. Первым вошел Фриц, но его тут же обогнал Апштейн. Он выскочил из-за спин Поляка, напудренного Перебиты-Переломаны Крылья и закричал на Софью Алексеевну, грозя указательным пальцем прямо перед ее лицом. Присутствие в тифозном лагере Апштейна мы ощущали всегда. Но он редко давал о себе знать: почти не кричал, в двери к больным ни разу не заглянул. И хотя скрытое его присутствие было угнетающим, казалось, что он изменился в этом лагере больных. Мы ведь изменились. Казалось, он признал старшинство Софьи Алексеевны – ни разу не вмешался в ее распоряжение. А теперь кричал:
– Саботаж!
Лысина налилась краской, очки запотели.
Апштейн не изменился, изменился Фриц. От его сапог, козырька форменной фуражки шел лаковый блеск. На нем был черный новый мундир. Исчезли госпитальная усталость, послеоперационная осторожность в движениях. Он не посмотрел в сторону Апштейна и Софьи Алексеевны, ждал, пока Апштейн выкричится.
Софья Алексеевна сказала по-немецки:
– В больнице не кричат!
Фриц не повернулся к ней и на этот раз, двинулся между койками. Шел медленно, присматривался к температурным листам. Апштейн и тут обогнал его, принюхивался, на что-то указывал Фрицу пальцем. Глаза в стеклах очков были невероятно расширенными. Было страшно следить за его подкрадывающейся походкой. И вот что поражало: добровольно оставшись полицаем тифозных больных, он ненавидел нас, бессильных, разучившихся ходить. Перебиты-Поломаны Крылья, Поляк, Бородавка были людьми более опасными, но у них не было такого заряда ненависти.
Фриц прошел до конца межкоечного коридора, быстрыми шагами вернулся к двери и сказал:
– У вас будет настоящий немецкий врач. Скорее поправитесь и начнете работать. Ны? Вам нужен воздух. Работа на чистом воздухе.
Полицейские ушли. Апштейн задержался в дверях. Сверкая слепыми стеклами очков, погрозил пальцем.
– Саботаж!
Мы слышали, как он догонял полицейских, топал по ступенькам вниз. На некоторое время немецкий говор затих – полицейские ушли в вахтштубу,– потом опять возник, грохнул запор на выходной двери, и мы остались с Апштейном.
В этот день я попытался подняться с койки. Я уже сидел, спускал ноги на пол, а тут поднялся, взглянул с высоты своего роста вниз, как с горы. Голова закружилась, и я упал на руки Софье Алексеевне. Я видел, как учатся ходить другие, догадывался, что мне предстоит то же самое, но то, что произошло, ошеломило меня. Я ведь видел лунатическую ловкость и силу бредящих, сам в бреду сбрасывал на пол тяжелый матрац, куда-то мчался. Послебредовое бессилие других казалось мне слабодушием, а не слабостью тела. Детские неловкие движения взрослых людей, детская растерянность на лицах, вскрикивания раздражали меня. Мне казалось, что выздоравливающие притворяются для того, чтобы почаще подзывать к себе Софью Алексеевну, Марию Черную или других сестер. Было стыдно, что они не стесняются обнаруживать перед женщинами свою полную слабость. Софья Алексеевна уже несколько раз спрашивала меня, не пробую ли я ходить. Но я боялся, что сам окажусь таким же слабым, как другие (были самостоятельные и полностью отказывающиеся от самостоятельности), и не мог преодолеть свою застенчивость. Обидно, что подоспевшая на помощь Софья Алексеевна лучше меня знала, что должно произойти. Я чувствовал, что на лице у меня та самая детская растерянность, которую я видел у других. Только теперь я по-настоящему понял, в какой зависимости я все это время был. Понял значение младенчески растерянных улыбок у тех, кто делал первые шаги. Что-то открывалось человеку. Не «сестра», а «сестричка» начинали говорить в этот момент. Уходили боль и мука болезни, оставалась слабость. Она была так велика, так меняла представление о мире, о расстоянии от койки до койки, о доступном и невозможном, что ошеломленный человек, лежащий на чистом, укрытый чистым, вдруг все разом вспоминал. Ему открывалось, что только безграничная добровольная доброта удержала его на таком краю, где, казалось, самой доброте и самоотверженности не на что опереться. После болезни он возвращался в ужасный мир, но, просыпаясь, видел перед собой лица Софьи Алексеевны, Марии Черной, других сестер и растерянно, расслабленно щурился на дневной свет. Научившись ходить, человек становился больше сам по себе, но уже не мог забыть того, что ему открылось, когда он после болезни поднимался на подгибающиеся ноги.