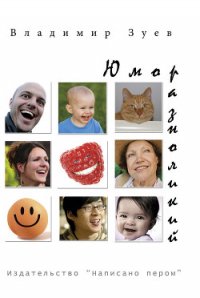Тропинка в небо (Повесть) - Зуев Владимир Матвеевич (книги хорошего качества TXT) 📗
— Володь, тяжело вспоминать — ну и не надо!
— Вспоминать тяжело, но ведь и забыть трудно, а? Как забудешь свою жизнь? «Фатер» и «мутер» учили манерам, улыбаться, кланяться, любить все немецкое, презирать все остальное, а славянское — ненавидеть. Поскольку все это вдалбливалось, и в жизни со всем немецким было связано только самое жуткое, то хотелось делать все наоборот. А тут еще поляки батрачили у хозяев. Жалели меня, ну я к ним и тянулся. Научили говорить по-польски… ну, объясняться более-менее… А еще помню — Юзек, молодой парень, показывал мне на небе звезды: «Вон российска, твоя, а то наша, польска…» Потом фронт стал приближаться. Как-то хозяева мои погрузили на подводы узлы и чемоданы и отправились в бега. И меня прихватили. В каком-то городке попали под обстрел. «Фатер» и «мутер» укрылись среди перин и подушек, а я давай бог ноги, удрал. Три дня скитался, голодный, как собака, а потом подобрал меня на улице старичок тихий такой, добрый — Герберт Гермис. У него я и прокантовался до наших.
— А этот чего от тебя хотел? — неприязненно спросила Манюшка.
— Ничего. Просто хороший человек, правда, хороший. Одинокий был и хотел усыновить меня, но… поманила «российская звезда»… На сборном пункте, когда очутился среди русских, начал вспоминать о себе. Вспомнил имя, а фамилию и отчество не вспомнил. Где жил, кто мать, отец, тоже не помню.
— Но как же… Тебе ведь сколько тогда было?
— Тринадцать. Но дело в том, что когда нас немцы загоняли в вагоны, я пытался сбежать. Меня поймали, избили. Отшибли, в общем, память. Наверно, когда резиновой дубинкой по голове… Какое-то время я вообще не мог говорить, потом долго заговаривался. Хорошо, хоть идиотом не стал… Ну, вот. Записался я Гермисом, чтоб хоть так отблагодарить старика, а по отчеству Иванович — ну, отец-то был русский, значит, Иван… Через несколько дней заговорил по-русски. И, поверишь, такая радость и гордость была, как будто Гитлеру салазки загнул…
Они долго молчали. У Манюшки комок стоял в горле. Как он их всех покалечил, змей Гитлер! Это ж всю жизнь болеть будет душа!
Гермис осторожненько, робко потеребил мочку ее уха, сглотнув шершавость в горле, тихо сказал:
— Ладно, ничего, пережили… Я вот думаю: интересно, куда забросит нас судьба после школы. Попасть бы в академию. Хочу быть инженером.
— Впервые слышу от спеца такое признание!
— Да, в спецухе у нас небо — девиз и знамя. И правильно. Большинство спецов идут в летные училища. Для этого и создана спецшкола. А кто хочет попасть в академию, помалкивают: во-первых, не так-то просто вытянуть на медаль, а во-вторых, на таких смотрят как-то… и свысока и вроде как на карьеристов. Я считаю — неправильно это.
— Конечно, неправильно. Главное, чтобы работа интересовала, чтобы именно тебе, а не «всем» она нравилась. А какая она — это дело второе.
— Точно. Я как-то летом был пионервожатым в лагере. Живая работа, а мне не понравилась.
— А вот, скажи, ты мечтаешь о славе? Только честно.
— Бывает. А что плохого? Слава ведь на труде держится. Человек тем знаменитее, чем больше сделает. А чем больше сделает, тем больше всем пользы, так чего стесняться?
Солнце давно уже перевалило за полдень. Удлинились тени. Усилился ветер.
— Володя, да что с тобой, в конце концов? — воскликнула Манюшка, видя, как парня опять перекосило.
— Да не обращай ты внимания!.. Вон машина подходит. Пошли работать.
Когда закончили погрузку, он уже не таясь схватился за живот.
— Зараза! Прямо как ножом режет! Думал — упаду.
— Чего ж молчал? Кому нужен такой героизм?
— Мне. Во-первых, не хотел очутиться в роли Тита, помнишь? «Тит, иди молотить! Брюхо болит». А во-вторых, не люблю, когда медицинские советы дают некомпетентные люди. Это я о тебе.
Вечером после ужина майор Кудрин перед строем рассказал, что сделано на воскреснике: посажено около пятиста деревьев и кустов, разбиты аллеи, клумбы, оборудованы спортплощадки, установлены скульптуры, выкопан и облицован бетоном пруд, парк обнесен красивой литой изгородью.
— Обком комсомола поручил мне от его имени объявить благодарность каждому участнику воскресника, — заключил майор. — Весной Парк имени Красной Гвардии зашумит листвой и запестреет цветами. И пойдет ваш брат-спецшкольник дефилировать по аллеям. Теперь каждый может гордиться, что своими руками создал себе и своей подруге отличный уголок отдыха.
— Совсем недолго нам достанется дефилировать, — вздохнул Толик Захаров. — Эх, жисть наша поломатая!
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ
Конец одной традиции
Однажды за завтраком Захаров доверительно сказал Манюшке:
— Ты знаешь, что отмочил твой землячок? Отнял крап у ребенка из третьей роты. Давненько в нашем гвардейском взводе не наблюдалось таких подвигов. Поговори, Марий, с Бутузовым, пусть вернет, и дело закроем по-тихому, как ничего и не было.
Когда поднялись в класс, Манюшка отозвала Бориса к окну.
— Слышь, герой парковых аллей, ты чего это маленьких обижаешь?
Борис посмотрел на нее недоумевающе, пожал плечами и даже потряс головой: мол, не было и быть не могло со мной такого.
— Зачем крап отнял у ратника?
— А-а, — Бутузов отмахнулся: было бы о чем толковать. — В моем «капуста» почернела. Чем только не драил — и мелом, и оседолом, и углем — не блестит и точка!
— Ты думаешь, у него она заблестит?
У Бориса была одна особенность, которая еще с залесских времен раздражала Манюшку: он не прислушивался к интонациям собеседника и уязвить его тонкими ироническими намеками или ехидными вопросами было невозможно. Вот и сейчас он рассмеялся с непосредственностью ребенка, обрадованного звоном разбитой дорогой посудины.
— Меня это уже не касается. Хочет — блестит, не хочет — как хочет.
— Слышь, Боря, отдай крап, — сдерживаясь, приглушенно сказала Манюшка.
— Да ты что! Я ж сказал: не блестит.
— Отдай, а то хуже будет!
— Не может быть и речи.
— Ну, тогда пеняй на себя.
— Что, поставишь на собрании? Не выйдет, спецы меня поддержат.
Оставалось только с досадой махнуть рукой. Досада была на себя: не умею с людьми разговаривать, все в лоб требую: сделай то, сделай другое. А кто я для них такая?
— Ладно, не нервничай, — сказал Захаров, когда она доложила о своей неудаче. — Для этого франта важно только одно — отражение физиономии в козырьке собственной фуражки. С ним надо по-другому. Зови Игоря на совет — что-нибудь придумаем.
На большой перемене Козин подошел к вешалке, снял фуражку Бутузова и, любовно вертя ее перед глазами, заохал:
— Клянусь кораном, этот крап повергает меня в священный трепет! Сколько тепла излучает он, как горит, переливаясь неземным светом! Кто владелец этого чуда? Ты, убогий раб Аллаха? — кивнул он покрасневшему и тревожно улыбающемуся Борису. — Но разве достоин ты, недостойный, разве дорос, чтобы этот пламень озарял твою дурацкую вывеску? Нет, нечестивый! — Игорь снял крап и сунул его в карман. — Этот смарагд только тогда будет на своем месте, когда озарит вдохновенное чело достойного.
Он вышел. Ребята сочли это за шутку и беззлобно подсмеивались над Борисом, которому, однако, все это казалось совсем не смешным, и он чувствовал себя весьма неуютно.
Игорь появился в классе после звонка. Потрясая ассигнацией, заявил:
— На этой сделке я заработал много таньга. Клиент пытался всучить мне государственную цену, но ведь я бизнесмен, а не филиал военторга.
— Ты что, толкнул крап? — недоверчиво спросил Синилов.
— Разве я похож на обманщика, о двуцветная ошибка природы?
Манюшка украдкой взглянула на Бориса. У того лицо было малиновым, ткни пальцем — кровь брызнет.
Сначала все были изумлены, потом начали возмущаться.
— Эх, жисть наша поломатая! — сказал Захаров, лукаво блестя глазами. — Я вижу, все жаждут собрания. Будет вам собрание. После ужина.
Собрание началось еще за ужином. Капитан Тугоруков подозрительно посматривал на столы четвертого взвода и даже изгнал из столовой двоих, особенно громко выражавших свои оскорбленные чувства.