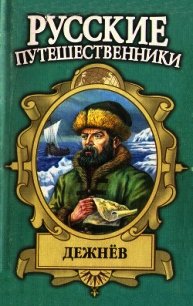Киевские ночи (Роман, повести, рассказы) - Журахович Семен Михайлович (читаем книги .TXT) 📗
В эту субботу была очередь Марии убирать кухню. Не очень-то приятно чистить газовую плиту, вытирать во всех углах пыль, мыть пол. К своей кухне Мария привыкла с давних лет. А здесь все было непривычно, безлико. И правда, когда в квартире одна хозяйка, кухня имеет свое лицо. А тут… Почему стены покрашены противной желтой краской? Почему посудные полки такие нескладные и высокие? А окно, наоборот, низкое и широкое…
Петрик вертелся под ногами, ему скучно было одному в комнате, а на дворе шел дождь. Мария налила в таз воды, и он отправлял в плаванье свои легкие лодочки. И не переставая болтал. То о чем-то спрашивал, то рассказывал про Сашу Середу, который не слушался руководительницы, то декламировал пять раз подряд один и тот же стишок.
Мария смотрела на подвижное личико, так напоминавшее лицо Саввы. Маленький человек, у него свои мысли, чувства, суждения… Никакого лукавства, никакой раздвоенности. Что подумал, то и сказал.
— Ты можешь хоть немного помолчать? — с искренним любопытством спросила она.
Петрик удивленно посмотрел на нее:
— А почему?
Закончив уборку на кухне, Мария до блеска натерла пол в комнате. Ну, все! Теперь можно причесаться, надеть новое платье и ожидать Савву.
Она и вправду очень устала. Ночное дежурство в больнице, потом беспокойный, хотя и короткий, день да еще уборка. «Выскочила замуж — терпи! Это тебе не беззаботное девичество». Ладно, она потерпит, все стерпит. Вот только… Что — только? Захотелось, чтоб Савва в эту минуту был с ней.
— Мама! — радостный, смеющийся голос Петрика вывел ее из задумчивости.
Она повернула голову. Петрик стоял посреди комнаты с пластмассовой лодочкой, полной воды. От его ног до самого порога тянулся мокрый след.
— Что ты натворил?! — крикнула Мария.
Петрик смеясь смотрел на нее и — бывает же так с детьми! — подзуживаемый каким-то бесенком, наклонял и наклонял свою лодочку. На блестящем паркете расплывалась желтая лужа.
— Так ты нарочно, нарочно! — захлебнулась внезапной злостью Мария и изо всех сил шлепнула мальчика, а потом схватила за ухо.
Петрик заревел.
— Замолчи, замолчи! — сдавленным голосом кричала Мария. — Тш-ш! Слышишь, что я тебе говорю? Замолчи! — Она все понижала голос, боясь, что кто-нибудь из соседей заглянет в комнату, и еще больше раздражаясь оттого, что не может свободно излить свой гнев и досаду. Пускай только кто-нибудь посмеет переступить порог! Кто бы ни пришел, она скажет: «Не ваше дело, не вмешивайтесь!» Ей послышались шаги в коридоре, и она замерла. Пусть только осмелятся!
Петрик плакал громко, со вкусом и на высокой ноте тянул: «Па-а-а-па…»
Мария еще с минуту напряженно прислушивалась. Никто не постучал, никто не вошел. Но эта минута ожидания отняла у нее последние силы. Тяжело передвигая одеревеневшие ноги, она добралась до дивана, легла и укрылась с головой.
Петрик сразу замолчал, жалобно окликнул ее, а потом и вовсе затих в своем уголке, не сводя испуганных глаз с Марии.
А она, глотая слезы, твердила себе: «Нет, нет, я никогда не привыкну. И ничто не образуется, Савва, ничто не может образоваться. Ты добрый, и у тебя легкий характер. А я не могу забыть этих лет. И всего, всего… Что ж, я такая, и ничего с собой поделать не могу. Ну как все это может образоваться? Ребенок? Наш — мой и Саввин — ребенок? А что, если у меня тогда появится отвращение к Петрику? И будет в семье ребенок — свой и ребенок — чужой? Начнется ад кромешный, все затянется таким узлом, что его ни развязать, ни распутать, и придется рубить по живому. По живому… А ведь все могло сложиться иначе».
Распаляя себя, Мария рисовала в воображении картины жизни, какой она могла быть, если б началась не теперь, а тогда. Ей стало нестерпимо жаль себя. «Ну хватит, хватит! Расклеилась, разревелась… Зачем все это?»
Она не услышала, как вошел Савва. Его веселый голос ворвался в ее мрачные мысли разительным диссонансом.
— Кто, кто в теремочке живет?
Никто на этот раз не отозвался. Савва глянул на притихшего Петрика, потом подошел к Марии, снял с ее головы плед. Мария порывисто прикрыла глаза рукой.
— Что случилось? Ты нездорова?
— Голова… Очень болит голова.
— Дать тебе что-нибудь? — Савва коснулся пальцами ее виска, пригладил волосы. Мария замерла, она так любила это мягкое прикосновение его руки.
— А ты что как мышонок притих? — обратился Савва к Петрику и посмотрел на лужу посреди комнаты. — Ты, я вижу, набедокурил?
Петрик молчал. Савва громко вздохнул. Нетрудно было догадаться, что произошло… «И оба расплакались, как маленькие», — он невольно улыбнулся.
— Собирайся, козаче, спать.
Савва пошел на кухню и вернулся со стаканом теплого молока.
— Пей! А я пока постелю.
Потом он раздевал мальчика и ровным, успокаивающим голосом приговаривал, просто так, чтоб не молчать:
— Сюда башмачки, сюда чулочки, сюда штанишки…
И вдруг:
— Ты что? Плакал? Разве мужчины плачут? А почему ты плакал?
Мария насторожилась. «Сейчас он начнет хныкать, жаловаться отцу, что я его ударила».
Петрик молчал, и это молчание тоже раздражало ее. «Ну, говори скорей, жалуйся. Чего ты молчишь?»
— Спокойной ночи, — сказал Савва.
— Спокойной ночи, — тихо ответил Петрик, по привычке чмокая отца в щеку. — А мама спит? Я тихонько…
Он на цыпочках подбежал к дивану и поцеловал Мариину руку, которой она закрывала глаза. Потом шмыгнул к себе под одеяло и тем же тихим голосом сказал отцу:
— Пап!.. Это я пролил воду. Я больше не буду. Скажи маме, что я ее люблю.
— Спи, разбойник, — спокойным, добрым голосом сказал Савва.
Мария притворилась спящей. Но она так крепко сжала веки, что глаза наполнились слезами.
А утром возле детского сада Петрик, как всегда, с мольбой заглядывал в глаза Марии и спрашивал:
— А ты меня возьмешь? А ты меня возьмешь? Не оставишь тут?
Она шла потом и думала: «Неужто он и в самом деле уже ничего не помнит — ни моего крика, ни крепкого шлепка… Или, может быть, это подсознательная детская хитрость, хитрость беззащитного и зависимого существа, которое вынуждено скрывать свои истинные чувства? Фу, какая мерзость лезет мне в голову! — возмутилась Мария. — Это же ребенок. Но ведь я его ударила, надрала уши, он звал отца… Что-нибудь должно же было у него после этого остаться. Какая-нибудь царапина на сердце. Или маленькие дети никогда не сердятся на своих мам? Если б я могла с кем-нибудь посоветоваться!
Но с кем? Наверное, ни одна мать не задумывается над такими вопросами. Ребенок растет на ее глазах с первого дня. А я? Мне надо сразу проникнуть в мир маленького человека, а это уже большой и сложный мир. Может быть, я просто все слишком запутываю, слишком усложняю? Савва тоже сегодня проснулся со счастливой улыбкой ребенка. Пел, шутил… А вчера он был угнетен. Я чувствовала это, хотя он и скрывал… Только Я, только я во всем виновата».
В то утро Мария с опаской вышла на кухню. Не заговорит ли кто, не начнут ли расспрашивать. Но соседки— и молодая и старая — ни словом, ни взглядом не проявили своего отношения к происшедшему. Для них это, очевидно, привычное дело. Где дети, там всегда крики и плач. А может быть, старая учительница когда- нибудь прочтет ей лекцию о том, как надо воспитывать детей. О, избавь меня, святая педагогика! Могу я думать о чем-нибудь другом или нет?
…Шел день за днем, а с обменом квартиры пока ничего не выходило. Мария понемногу привыкала к новому дому, к этой комнате, которую теперь не называла чужой, но и своею назвать тоже не могла.
Савва старался приходить домой пораньше, это с радостью и благодарным чувством отметила Мария. С ним все было по-другому. Он излучал какое-то успокаивающее тепло; от его мягкой речи и улыбчивых глаз все запутанное распутывалось само собой.
Он с увлечением рассказывал о своей редакции, подробно разбирал какие-то статьи — острые и неострые («Значит, тупые?» — смеясь спрашивала Мария), толковал о чьем-то фельетоне — рвача разоблачили!