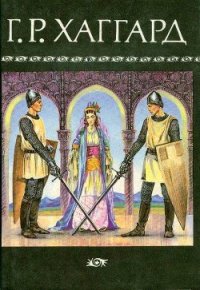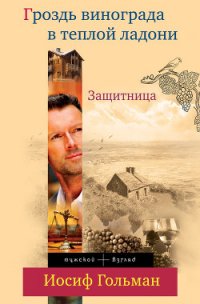Железный доктор (Собрание сочинений. Т. I) - Эльснер Анатолий Оттович (книга регистрации TXT) 📗
Был ясный весенний день, когда я, направляясь к дому княгини, ехал по ее владениям, с горечью подумывая о том, что все окружающее меня — земля, леса и горы — делалось теперь ее собственностью, но что она сама выскользнула из моих рук и, странная иллюзия: мне казалось, что под землей, по которой я еду, всюду покоятся трупы и кости их расходятся по всем направлениям.
Подъехав к дому, я с удивлением увидел стоявшую у крыльца коляску, к которой поспешно привязывали чемоданы и сундуки. Войдя в комнаты, я был поражен царившим беспорядком и беготней лакеев. Вдруг дверь распахнулась и передо мной в дорожном костюме появилась Тамара.
— Милостивый государь, что вам надо? — спросила она резко и продолжала: — Доктор теперь совершенно лишнее лицо в этом доме. Здесь больных больше нет, а я навсегда уезжаю. Здесь ходят призраки убитых вами ваших больных.
Вам здесь нечего делать. Прощайте.
Мной овладел род столбняка и я смотрел на нее, не двигаясь.
— Прощайте же, — воскликнула она и с убийственной иронией добавила:
— Вы вообразили, что ведете меня за собой, а на самом деле это было не совсем так. Вы выполнили все, что мне было необходимо, но к убийцам чувствуют не любовь, а ужас. Больше вы мне не нужны.
Во мне закипел гнев и я шагнул к ней.
— Прочь! — воскликнула она, вынимая из кармана револьвер и направляя его в мою грудь.
— Стреляйте, — сказал я, в один момент овладев собой и чувствуя полное спокойствие, и, клянусь, в этот момент я искренне желал, чтобы она убила меня; но Тамара, не опуская револьвера, вильнула, как змея, и пошла по коридору к крыльцу…
XXI
Ночь давно наступила. Вокруг громоздились горы и скалы и в необъятной вышине миллионы звезд на все это набрасывали переливающееся сияние. Ночь молчала. Небо дышало безмятежным покоем и точно гигантскими голубыми крыльями с нежной лаской распростерлось над миром. И, среди божественного покоя природы, с одной горы на другую взбирался одинокий путник, в груди которого клокотал ад и буря души его обезображивала его красивое, бледное лицо. Он был одет, по своему обыкновению, в франтовское платье, но теперь оно местами было изорвано колючим кустарником и цилиндр его был безобразно смят. В руках его была тяжелая, грубая палка. Этот человек был — Кандинский.
Я потерял счет дней и ночей, проведенных в горах, и мысль возвратиться к людям поселяла во мне страх и отвращение. Не только общество таких же, как я, интеллигентов, но даже попадавшиеся мне изредка пастухи и горцы заставляли меня вздрагивать: мне казалось, что на лице моем есть отпечаток, явно говорящий всем: убийца, и только пролетавшие надо мной орлы, казалось, были моими добрыми товарищами — гордые, кровавые и свободные.
Чем дольше я находился среди простора гор в совершенном уединении, вглядываясь в бездонное голубое небо, чем дольше я созерцал необозримое пространство гигантов-гор, бесконечными рядами громоздившихся одни над другими, тем ярче меня охватывало сознание, что в громадных человеческих муравейниках-городах люди — скрытые убийцы, всю жизнь не снимающие со своих лиц масок судий, врачей, философов — и в этом их бесконечное мучение; они не те, какими их создала природа и, втиснутые в футляр лицемеров и кривляк, перерождаются в чертей и дьяволов. В особенности могу сказать это про себя: мое сердце прожгли огнем гордости и злобы и в мой мозг влили отраву лжемудрствования, и вот я прошел через все ступени: скептика, мученика мысли, человеконенавистника, дьявола с отшлифованным тонким умом и дипломом спасителя ближних, лицемера, лгуна, убийцы и, наконец, сделался самым злосчастным существом — обезумевшим под тяжестью своих грехов и гордости, больным. Я всматривался в безмятежный мир, веющий с голубого неба, и с ужасающей ясностью ощущал никогда не утихавшую бурю в душе моей, которая гонит меня по горам и ущельям дни и ночи. Моя железная воля — самообман, я сам был рабом ее; свобода ума — иллюзия, я никогда не был свободным, ибо гордость моя властвовала надо мной. Я заносился страшно, как конь, вздернутый железными удилами на огромные скалы и взвившийся там на дыбы. Теперь во мне ничего, ничего не осталось, кроме сознания глубокого несчастья и безумия своего. Какой-то голос во мне постоянно твердил: убийца, и в ужасе я убегал от своего страшного двойника в горы и ущелья. И посреди бури души моей, с чувством нестихаемой обиды и злобы, я вспоминал о союзнице моих преступлений, с отвращением бросившей меня. Иногда нарочно, желая еще более усилить свои мучения, я рисовал себе картины ее новой любви, и тогда во мне подымалась глухая, бессильная ярость, новые убийства рисовались уму моему, и потом являлось желание умертвить себя.
Что жизнь для меня делается невозможной, — это я понимал ясно и отчетливо. Однако же, мне все-таки хотелось разобраться в хаосе моих мыслей: если прежние были сетью дьявола гордости, то, очевидно, что истина обретается не среди бурь гордого сердца, а среди смирения и ненарушимого покоя. Очевидно также, что понять ничего нельзя умом и, так как он бессилен в разрешении вопросов, мучивших меня, то остается одно: широко раскрыть свое сердце для света, льющегося с этого неба. Я, так сказать, вызывал на поединок то Нечто, которое являлось властителем природы и миллионов людей, но в этой борьбе Невидимое победило меня, и потому мне остается только смиренно преклониться пред Ним и просиять духом в отражении света, льющегося с Голгофского креста того Мученика-Человека, который умел много верить, много терпеть и много любить.
В теории это выходило так, но как осуществить такие мысли — это другой вопрос. Я чувствовал в себе полнейший хаос, среди которого кружились отчаяние, злоба и ужас. Небо было высоко и недостижимо для меня, рай смирения и любви не мог охватывать душу, с глубины которой подымался ужас и гнал меня по горам, точно желая укрыть меня от самого страшного для меня существа — меня самого.
Несмотря на это, теперь я шел все вперед к монастырю, точно меня подстрекали какие-то голоса. Зачем и куда — я не думал об этом, повинуясь внутреннему чувству, побуждающему меня идти все дальше. Вдруг, в то время, когда я взошел на вершину новой горы, в отдалении с глубины ущелья стал показываться церковный крест, точно выплывая в голубой простор воздуха. Остановившись, я долго смотрел на крест, точно передо мной появилось что-то давно знакомое, еще с дней далекого детства, недостижимо высокое и в то же время обыденно-простое, что я в прошлом всегда с гордостью отвергал, как недостойное моего ума. И вдруг мой мозг как бы пронзила мысль, что мой единственный оплот — крест — символ любви и смирения, и по мере того, как я смотрел на него, мне казалось, что, искрясь в лучах заката, он уплывает все выше и выше, уносясь в голубой свод неба, и я почувствовал, что недостижим он для меня, как звезда небесная, и, рассмеявшись коротко и глухо, повернул обратно; но, как-то против моей воли, я снова направился к монастырю, и в воображении моем обрисовался старичок, добрый, бесконечно добрый. Он стоял где-то вверху и влек меня, ласково кивая белой головой и улыбаясь широкой, доброй улыбкой. «А, вот кто меня влечет — старикашка», — подумал я, вглядываясь в глубину меня самого и приходя к удивившему меня открытию: мысли могут быть в человеке, не сознаваемые им, и они самые могущественные, так как направляют человека, как невидимые властители, помимо его воли. Может быть, это наше внутреннее второе «я», наш невидимый ангел-хранитель или черный дух, но он вычерчивает путь жизни, называемый судьбой. Сложен человек, непонятен и загадочен, а я в своей безумной гордости вообразил, что его чувства — нервы, душа — мозг, сердце — колесо. Я не видел нитей, идущих от нас в область непостижимого, а теперь вижу: мои собственные порвались и я лечу с отчаянием в бездну мрака и ужаса. Теперь я думаю наоборот: всякое существо невидимо соединено с горним миром, иначе не было бы мучеников любви, страдальцев за идею, никто не взошел бы на костер с гимном Неведомому и, посреди объятий пламени, не мог бы чувствовать себя как в раю; нигде не слышался бы грустный плач о грешном мире и не звучали бы струны, призывающие людей к блаженству безгрешных душ; не было бы мучеников, не было бы безумных, и я, Кандинский, не ужасался и не негодовал бы в вихре своих умствований и лжевыводов, что человек — машина, а вселенная — гигантский организм; мои бедные жертвы не лишали бы меня тогда сна.