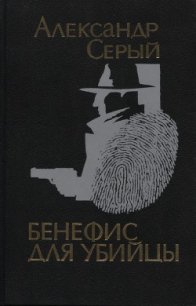Серый мужик (Народная жизнь в рассказах забытых русских писателей XIX века) - Вдовин Алексей "Редактор" (читать книги онлайн полностью .TXT) 📗
В это время со двора донесся ласковый визг собаки и веселый смех мальчика, игравшего с нею на крыльце смотрительской квартиры. Полковнику захотелось иметь его около себя, и он кивнул фельдфебелю.
— Ваську сюда!..
— Василий Семеныч, — почтительно позвал фельдфебель, — папаша требуют.
На пороге показался краснощекий мальчуган в синей косоворотке и военной фуражке. Свет керосиновой лампы на мгновение ослепил его; мальчик с улыбкой закрыл глаза руками, но затем, разглядев отца, радостно кинулся к нему среди расступившихся арестантов. Его не пугали серые халаты, он привык к звону кандалов, и не раз жесткая рука каторжника гладила его белокурые волосы. Однако, встретив взгляд человека, стоявшего перед его отцом, он вдруг присмирел и прижался лицом к отцовской ноге.
— Вон какой бутуз растет у меня, это самый младший, — сказал полковник, гладя рукой голову сына, и взглянул на Фролова. Вместе с сожалением к бродяге, он испытывал то странное чувство, которое заставляет еще более ценить место у камина, когда вспоминаешь о том, что другие пробираются среди темной метели…
Фролов стоял сгорбившись, с темным лицом и угрюмой лихорадкой во взгляде. Залесский посмотрел на него и подумал, что он понимает его настроение… Встреча с «старым знакомым» заставила и его оглянуться на свою жизнь… Что-то смятое, спутанное, ряд годов, ничем не отмеченных, и какие-то обрывки воспоминаний, отзывающиеся тупой болью. Люди, которых он знал близко, — были не те, что живут полною жизнью. Города он знал только со стороны тюрем, в деревнях — бани и задворки… Жизнь прошла стороной, и он смотрел на нее со стороны, с опушек тайги и со своей бесконечной дороги. В одном месте он видел, как пахари выводили на заимочных пашнях борозду за бороздой, посматривая на солнце. Дальше уже косцы, звеня косами, укладывают зеленые ряды на лугах. Еще дальше жнецы жали поспевшую рожь. Вся эта чужая работа катилась стройно по заведенной колее, из месяца в месяц, из года в год, и все это не задевало человека, который смотрел с дороги. Матери кормили ребят грудью; мужики, положив головы на колени баб, подымали кверху детишек, которые тянулись к ним ручонками и звонко смеялись… А он смотрел на все это из кустов.
— Много раз бегал с тех пор? — спросил вдруг полковник отрывисто.
— Одиннадцать раз, — тихо ответил Фролов.
— И все неудачно!
— До своей губернии два раза доходил…
— Ну?..
Бродяга молчал, полковник пожал плечами:
— Эх, Фролов, Фролов! Жаль мне вас, ей-богу… На дороге где-нибудь встречу, сам рубль подам, даром что от вас хлопот казне не оберешься. Вот ты одиннадцать раз прошел, и назад тебя гнали. Сколько казне расходу… А убей ты меня — не понимаю, зачем вы всё бегаете… Да и сам ты не скажешь.
— Сестра у меня, — тихо и как-то жалко сказал Фролов.
— Сестра! Что она тебе, письма, что ли, пишет, зовет на именины да на крестины?
— Никак нет…
— Может, давно умерла?
— Тетка еще была.
— Ну хорошо, ну жива, ну обе живы. Так ты думаешь, они бродяге обрадуются? Ведь она замуж вышла, семья у нее. Сама за сотским не пошлет, так муж во всяком случае… Имейте в виду, — повернулся полковник к офицерам, — чем опытнее в своем деле бродяга, тем глупее в житейских делах. Я этот народ изучил…
В голосе полковника звучала такая уверенность, что, казалось, сама практическая жизнь говорила его устами, глядела из его маленьких и теперь несколько насмешливых глаз. Между тем Фролов, тот самый «Бесприютный», чье имя пользовалось у сотен людей безусловным авторитетом, о ком по сибирскому тракту сложились целые легенды, стоял перед ним и бормотал что-то невнятно и смутно.
Молодой прапорщик, стоявший сзади полковника и державший под мышкой новенькую папаху с блестящей кокардой, смерил бродягу с ног до головы пренебрежительным взглядом; двое его товарищей неодобрительно покачали головами. Только один Степанов, смотритель этапа, худой, с раздражительным и желчным лицом, стоял неподвижно, и вся его фигура выражала, по меньшей мере, равнодушие к излагаемым начальником мыслям или даже пассивное неодобрение. Впрочем, это могло происходить оттого, что Степанов, не молодой уже подпоручик, и сам-то не вполне соответствовал видам начальства, получал частые выговоры, а теперь, кажется, вдобавок был еще и с похмелья.
Лица обступивших эту группу арестантов были угрюмы. Кто-то в задних рядах вздохнул. Хомяк сидел на одной из нар в своей обычной позе, и даже он как будто прислушивался к уверенному голосу полковника и к тихим ответам Бесприютного. В серой массе чуялось напряжение; арестанты переглядывались, как будто поощряя друг друга сказать что-то такое, что у многих было на уме, но что не могло ни у кого сорваться с языка.
Вдруг мальчик, тихо прислонившийся к ногам полковника, посмотрел в лицо человека, стоявшего против отца, и с беспокойною просьбой сказал:
— Папа… пойдем…
Залесский тоже взглянул вслед за мальчиком и, протолкавшись через кучку арестантов, положил руку на колено полковника и сказал с наивной простотой человека, очевидно совершенно забывшего свое положение:
— Знаете, полковник… Вам бы лучше уйти.
Это было совершенно неожиданно. Полковник посмотрел на него с недоумением, но вдруг понял то что-то особенное и тяжелое, что нависло среди угрюмой, ожидающей тишины, и немного растерялся… Степанов тоже что-то сказал ему, нагнувшись, и полковник вдруг как-то жалко заторопился.
— Ну да, ну да… Я сейчас… Прощайте, ребята.
Никто не ответил, и когда полковник сошел с нар, было мгновение тяжелого ожидания и ужаса. Мальчик пошел вперед… Толпа расступилась…
Фролов стоял, схватившись за край нары судорожно сжатыми руками и подавшись вперед. Он дышал тяжело и весь дрожал мелкою судорожною дрожью. Он шептал что-то, но слов не было слышно…
В этот вечер староста Фролов закутил. Он угощал всех, даже Жилейку; бродяги, усевшись кучей, затянули протяжную и надрывающую песню. Приходил фельдфебель, потом начальник этапа, но все они видели, что это одна из тех неудержимых вспышек неповиновения, в которых увещания бесполезны, а насилие может повести к самым ужасным последствиям для обеих сторон. Еще третьего дня конвойные, провожавшие партию, спокойно спали в телегах, а кандальщики сами наблюдали дисциплину и порядок. Теперь староста первый шумел и вызывающе отвечал на увещания. Кругом этапа во дворе царило напряженное ожидание. Солдаты не ложились спать, караул удвоили, со двора слышалось сдержанное бряцание ружей. Казалось, зверь, которого вчера можно было водить на шелковой ленте, теперь ощетинился и грозил разбить свою клетку.
Опытные люди знают эти мгновенные вспышки в арестантской среде. Масса людей, которые обычно так или иначе руководятся своими разрозненными интересами, — тут вдруг проникаются общей всем страстью. Каждый чувствует это странное единодушие, наступающее без предварительного сговора, без рассуждений, и сознание общности настроения страшно усиливает его в каждом отдельном человеке. Тут трус становится храбрым, а храбрый человек — безумцем. Из двух сторон, стоящих лицом к лицу, одна чувствует себя сильнее, потому что заранее отказывается от самого дорогого, за что можно бояться…
Степанов, состарившийся на этапах, был знаком с этими стихийными вспышками. Поэтому он принял все меры, чтобы избегнуть столкновения. Он не пытался вмешаться, не отнимал водку, которую арестантам удалось добыть в большом количестве, и даже удалил от дверей камеры часового. Он надеялся, что таким образом пламя внезапно вспыхнувших страстей перегорит и погаснет, не выходя за пределы камеры.
Залесский старался заснуть, но это ему не удавалось: дремота была тревожна. По временам, открывая глаза, он видел будто в тумане силуэты двигавшихся людей; слышал сквозь дремоту говор и песни. Один голос особенно выделялся и тревожил его, напоминая о чем-то неприятном и тяжелом. Поэтому он не хотел просыпаться, а проснувшись, старался тотчас же опять заснуть.