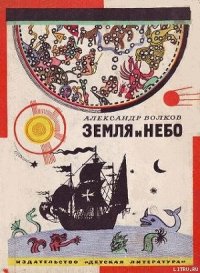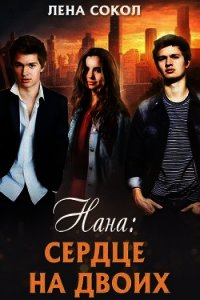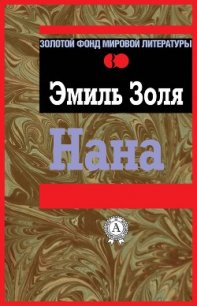Московская Нана (Роман в трех частях) - Емельянов-Коханский Александр Николаевич (читать книги бесплатно полностью без регистрации TXT) 📗
Смеркалось. Молодой месяц с опущенными вниз рогами смеялся над землей, но не светил; по крайней мере, света его никто не замечал.
Клавдия шла по Тверской улице, и поклонник у нее скоро нашелся в лице какого-то старичка.
«Седине» Льговская обрадовалась… Молодость теперь не соблазняла ее…
Старичок оказался очень милым, любезным господином…
Он занял приличный номер в доме, выходящем на Страстной бульвар.
Потребовали ужин… И, любуясь все еще красивой Клавдией, старичок напевал вполголоса какой-то веселый мотив.
В номере было пианино.
Старичок спросил, любит ли Клавдия музыку, и, услышав благоприятный ответ, начал играть.
Дрожащие слабые руки плохо нажимали на клавиши, и получался какой-то слабый, бессильный и, вместе с тем, нежный звук…
Подали ужин.
Клавдия с большим удовольствием съела несколько кусочков горячей говядины и порядочно хлебнула красного вина…
Голова у ней кружилась…
Старичок проснулся рано… Номерные часы показывали только семь… Утреннее солнышко приветливо играло на дешевых обоях «комнаты любви», заглядывало в «спальню» и слепило глаза проснувшейся «вакханки».
Прощаясь с Клавдией, старичок дал ей пять рублей, но та их не взяла и попросила только «серебра» на извозчика.
Через полчаса она уже подъезжала к квартире Рекламского.
Тот же «траурный цербер» сидел у подъезда декадента и молча вручил ей ответный пакет. Вне себя от радости, Клавдия хотела было дать «привратнику» на чай, но тот хмуро отказался.
Льговская наняла извозчика на Ваганьково кладбище… «Вакханка» была уверена, что Рекламский точно исполнил ее просьбу…
В нетерпении Клавдия, сидя в «трясучем триндулете», распечатала конверт, и сейчас же из него выпал маленький пакетик. На нем был изображен череп.
Льговская стала читать объяснительное письмо поэта.
Декадент и тут не мог не «выкинуть козла», хотя для этого не было и «тени подходящего настроения»… Письмо Рекламского гласило:
«Объятую уже дыханием нирваны, любовницу роскошную, ее не мог приветствовать вчера я: я творил! Прошу принять мой дар смертельный; зовется морфий он… Я — смерти жрец, я — жрец ее свободы. Мое послание, дабы оно не смело очутиться в руках, не знающих блаженства казни вольной, молю вас — истребите».
Клавдия на мелкие части разорвала «шутовство» декадента и стала поторапливать извозчика.
Приехав на Большую Пресню, ведущую прямо на Ваганьково, извозчик повеселел. Его маленькая, шустрая лошаденка то и дело обгоняла похоронные процессии. Отдающих последний долг так рано хоронимым трупам было немного: около некоторых «мертвецов» не шло никого, кроме носильщиков или факельщиков…
XV
ОСВОБОЖДЕНИЕ
Клавдия с большим трудом, но без посторонней помощи нашла вновь скромный крест Смельского.
Было великолепное, ясное утро. Ветер куда- то умчался и не хотел своими порывами беспокоить «город мертвых»; он гулял, должно быть, там, где можно было хоть кого-нибудь охладить и обновить своим дуновением. На кладбище ему было нечего делать…
Птички весело чирикали: им среди мертвых было гораздо вольготней, чем среди живых! Их не подстерегала на кладбище опасность. Их никто здесь не трогал. Они пели неумолкаемую хвалу Творцу, славили свой мирный уголок, оживляя своими гимнами бесстрастные, вечные «жилища» покойников. В их чириканье порой врывались свист локомотива и стук поезда, идущего по полотну прилегающей к «Ваганькову» линии Московско-Брестской дороги. Иногда птички перелетали из известного места и издали следили, когда уйдут собравшиеся вокруг свежей или старой могилы люди. По опыту они знали, что им, после окончания стройного человеческого пения, громкого рыдания, обязательно перепадет что-нибудь из съестного. Иногда и не оставляют ничего злые люди, и птички напрасно сторожат их уход; но они за это не сердятся.
Птички заметили и Клавдию; зоркие их глазки усмотрели у ней в руках что-то белое, которое она, войдя на кладбище, вынула из кармана.
Душа Клавдии была спокойна. Льговская как будто бы спала наяву, тихо, безмятежно, как спит последнюю ночь преступник, приговоренный к смертной казни. Вместо сновидений, Клавдию окружали воспоминания. Она ясно представила себе всю свою «смутную» жизнь с самого начала. Как вдумчивый летописец, Льговская бесстрастно разбирала все свои волнения, все обиды, нанесенные ей людьми, и все, что казалось ей теперь таким мелким, таким ничтожным, не стоящим никакого внимания, не только что гнева и злобы… Вся жизнь прошла как-то мгновенно, но сколько в этом мгновении было пустого, ложного, ошибочного!
Одну только свою первую, страстную, хорошую любовь к Смельскому Клавдия считала недосягаемым совершенством своего существования.
Редко простым смертным приходится пережить такое блаженство…
А раз они его испытали, они не смеют, они не могут сказать, что они задаром прожили.
Любовь, основанная на взаимном обладании друг другом, когда люди забывают весь мир в своих молодых, сильных объятиях, бывает редко.
В нее не врываются ни обычный, пошлый расчет, ни думы о будущем устройстве буржуйного семейного счастья, ни желание иметь детей, вообще ничего, ничего обыкновенного, житейского…
Клавдия была одна из счастливиц, видевших «дыхание» этого солнышка…
Она была согрета его ласками в самую светлую пору юности, когда и более низменные чувства бывают свежи и девственны…
Льговская любила и на ее руках угасал ее первый любовник, никогда и никому до нее не принадлежавший. Она жила с ним по примеру богов.
Никто из людей не мог подойти к их любви. Одна смерть посмела уничтожить их союз! Одна смерть разбила прекрасные иллюзии, волшебную сказку!
Художник был гораздо счастливее Клавдии: он умер с сознанием, что его любят, бескорыстно, безумно любят…
А что может быть лучше и божественнее этого эгоистического сознания?!..
Чистоту свою и чистоту своей первой любовницы художник унес в могилу…
Клавдии в наследство после него досталась «кошмарная» жизнь.
Стихийная злоба на несправедливость судьбы овладела девушкой…
Унижением своей личности, развратом она пыталась было смягчить ужас одиночества, уверить себя, что любовь ее к «неблагодарному, рано бросившему ее художнику» была — абсурд, что ее можно было забыть! Забыть, но надолго ли?
Нет, никогда не забывается светлое, юношеское, страстное чувство!..
Его можно по временам топить в вине, но, рано или поздно, оно выплывет снова.
Его можно грязнить, пытаясь распутством усыпить его бессмертное дыхание, но и в этой смрадной могиле оно будет жить.
Никто и ничто не в состоянии смягчить воспоминания о первом трепете на девственной груди первой благородной страсти.
Ни один огонь не в силах выжечь из сердца знаки этой благородной печати.
Любовь — стихия, а враги — ничтожные бактерии, невидимые даже в хороший, усовершенствованный микроскоп.
Такие враги и поселились в Клавдии со дня смерти Смельского. Их было очень много: злоба, чувственность, разврат, болезнь…
И что же сделало общее усилие этих врагов?
Оно постепенно привело Клавдию к могиле ее первой божественной любви…
Льговская поняла, что жить она больше не может, не желает, не смеет.
Могила околдовала ее, приковала своими крепкими мистическими цепями… А порвать их власть потщится разве один безумец!
Могила первой, юной любви всегда будет стоять перед глазами…
Она будет неразлучной тенью…
Все будет казаться мраком, никакие волшебства не помогут освободиться от ее «взора».
Она засушит, медленно замучает, лишит сна и во все подольет отраву…
Благородная, изысканная душа не перенесет этого, а не-благородной нечего этих мук бояться: она никогда не испытает чувства «стихийной» любви.
Любовь не создана для плебеев.
Она отворачивается также и от безобразия.
Любовники должны быть красивы и прекрасны.
Даже в обыденной, пошлой жизни смеются над страстью тех лиц, уродство которых понимают даже лошади извозчиков и пугаются.