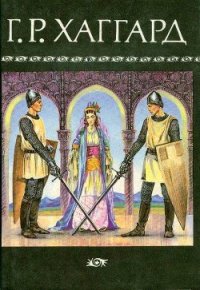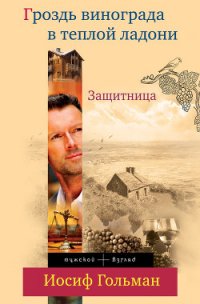Железный доктор (Собрание сочинений. Т. I) - Эльснер Анатолий Оттович (книга регистрации TXT) 📗
Тамара испугано вздрогнула и уставила свои расширившиеся глаза на мнимое привидение. Я прижал ее к своей груди и стал покрывать ее губы поцелуями: ведь мы находились у двери нашего Эдема; пламень страсти, горевший в ней таким ярким светом, под влиянием страха мог угаснуть; я его снова возжег и она смело сказала: «Это вовсе не привидение в саване, а просто женщина в белом платье. Пойдем».
Она отворила дверь и вошла в домик, а я снова взглянул на странную фигуру в белом и остался на месте в изумлении. Дело в том, что на один момент в сиянии луны пред мной обрисовалось бледное маленькое лицо Нины; потом белый столб, как мне показалось, закружился на месте и бледный профиль покрылся тенью, бросаемой высокой скалой.
Такое открытие для меня было далеко не из приятных и в другое время я, конечно, начал бы задаваться различными рассуждениями о загадочном появлении Нины на этих высотах, но теперь я отбросил всякую мысль о ней: меня ожидал Эдем. Переступив порог, я очутился в маленькой комнате, увешанной персидскими коврами. На длинной оттоманке, поддерживая обнаженной рукой голову, лежала Тамара. Лунное сияние озарило ее лицо, окруженное черными облаками падающих до земли волос. Ее глаза смотрели прямо на меня в упор и красные губы полураскрылись в вызывающей страстной улыбке. Я подошел к ней. Она на мгновение привстала; послышался треск отстегнувшегося золоченого пояса, и Тамара протянула мне руки..
На этом месте я опускаю занавес.
Мой протест против описания картин блаженства происходит вот отчего: человек — создание страдательное, он не перестает страдать даже на груди возлюбленной и в чашу блаженства всегда скатываются невидимые слезы. Может быть, это слезы ангела, который оплакивает грехопадение любовников, стоя у их изголовья; может быть — злого духа. Как бы ни было — в моментах самого безумного блаженства есть примесь страдания. Проклятое колесо мыслей вечно вертится в нашем уме, отбивая свой такт, и чертит свои печальные или даже похоронные фигуры в то время, как все нервы содрогаются как бы в одном вздохе любви. В своем уме мы носим страдания и чем тоньше ум, чем выше критическое отношение к себе и самоанализ, тем глубже самоотравление. В уме таится яд, незримые атомы которого, стекая, прожигают свое собственное сердце. Но есть и еще нечто другое: всякое блаженство имеет конец и вот в мыслях своих человек вечно отбивает моменты своему коротенькому счастью, отравляя его и разбавляя ядом горечи и сожаления, что оно уходит. На колоссальных часах Времени безостановочно бегает маятник и мы, всегда видя его перед собой, отчеканиваем: тик-так, тик-так. Признаться, все это очень досадно. В конце концов, и страдания, и радости не более как тени, проходящие перед нами и разгоняемые ветром. В этом смысле я совершенно искренне повторяю фразу: страдать иль наслаждаться, пожалуй — безразлично.
С разбросанными волосами, со страстным смехом на губах, звучащим упоением, Тамара лежала предо мной, глядя на меня неподвижными глазами, золотистый ободок которых придавал им вид двух черных камней, охваченных кружком из пламени, и время от времени начинала снова и снова безумно ласкать меня… И в ее смехе, и в ее опьяняющих ласках, и в безумно-смелых словах — во всем выражалась чувственность, сопровождающаяся страшным сознанием совершенного преступления. В моих объятиях она бессознательно искала забвения и чувственность ее, как и моя, страшно разрасталась: мы мысленно видели перед собой кровавое пятно, которое, колеблясь и расширяясь, заволакивало нам глаза. Невольное сознание нашей обособленности от других людей заставляло нас мысленно отрицать всякую мораль и стыдливость и являться друг перед другом нагими и глумящимися. Мы были во власти зла, мрачных помыслов и шевелящегося в нас отчаяния, и уже тогда мы смутно чувствовали это. Наше нашептывание друг другу мешалось со странным смехом и отдавалось глухо. Поцелуи наши разжигали нас и после них оставались на теле красноватые полукруги зубов, точно мы искали крови и старались чувствовать ее. Наш смех звучал странно, почти безумно и дышал сладострастием. Как бы ни было, но в конце концов я все-таки мысленно поздравлял самого себя: теперь я вполне искренне мог обратиться к небесам с единственным молением: «Время, остановись», так как находил, что достигнул апогея возможного блаженства на земле, возможного если не для людей добродетели и морали, конечно, то для тех, кто, отрицая все это, вооружен дерзкой волей и жаждой жизни. Время, однако же, шло, и с каждым поцелуем, с которым я впивался в высокую, розоватую, как пламя зари, грудь Тамары, мой слух отчетливо улавливал биение ее сердца, и в моем уме биение это странно отождествлялось с ударами маятника: тик-так, и напоминало, что минуты эти уходят в вечность безвозвратно вместе со страстными вздохами, замирающими на ее устах.
И вдруг произошло что-то странное, болезненно отозвавшееся в нас.
Это был протяжный, тихий смех, раздавшийся откуда-то из-за окна, зловещий и отчаянный, и в то же время жалобный, как плач ребенка.
Мы оба взглянули в окно и в лунном сиянии за стеклом пред нами обрисовалась белая фигура с маленьким, окруженным черными волосами, лицом: то была девушка. Она походила на призрак и лунная ночь придавала ее бледности какой-то янтарно-мертвенный отблеск. С ее широко раскрытых глаз, казалось, смотрел на нас холодный ужас и из оскалившихся сжатых зубов лился протяжный жалобный хохот.
— Доктор и мой прелестная мама — какой стыд!
С этим восклицанием белое привидение охватило свой лоб руками и закачалось на месте. В этот же момент пред ней откуда-то появилась дряхлая, знакомая мне старуха с белыми, как снег, торчащими вокруг головы волосами. Подхватив на руки девушку, она громко заговорила густым старческим голосом по-грузински. Тамара перевела впоследствии ее слова так:
— Не смотри на них больше, моя детка: ведь ты уверилась теперь, хотя не верила мне, твоей старой няне. Вот это Кандинский — отравитель, а эта красивая змея — ты ее тоже знаешь — твоя мачеха. Уйдем отсюда. Говорю тебе: из их глаз выползают змеи и пьют кровь твоего сердца…
— Няня, дай мне нож… Я не хочу больше жить…
Старуха, обвив руками талию девушки, заставила ее отойти от окна, и две фигуры, промелькнув за деревьями, скрылись.
Я перевел свои глаза на Тамару и изумился: вид ее был поразителен.
Она стояла предо мной с неподвижностью монумента, с лицом таким бледным, что оно было как бы вырезанным из слоновой кости, и от этого лица веяло теперь холодом и неприступной гордостью. Казалось, в ней внезапно ожили какие-то дремавшие прежде чувства и наполнили ее уязвленное сердце. Я стал на одно колено, взял ее руку и почтительно поцеловал.
Ее губы чуть-чуть раскрылись в улыбке, но видимо, желая побороть себя, она нахмурилась и, сделавшись дивно хороша, сказала:
— Что означает эта выходка?
— Я твой рыцарь до гроба и оказываю тебе честь, как рыцарь своей даме.
— Ты шутишь, но, признаюсь, неудачно. В моей душе бур я и она не утихнет, пока жива… Как она сюда попала?
— Допускаю, что адский огонек ревности вознес ее на эти горы.
— И смеет она ревновать — этот скелет!.. Кандинский, ты должен снять с моей души этот камень…
— Камень!.. — проговорил я с притворным удивлением.
— Противный человек, ты должен знать, что в душе моей, там — ад.
«Наконец-то», — подумал я в чувстве охватившей меня радости.
— Бедная девушка!.. Я ее хотела бы любить, но не могу… Ненависть подымается во мне и гасит последние искры чувства. Я чувствую, что сердце мое превращается в лед… Как я ее любила бы…. Но, противный скелет, что она думает теперь — воображаю… Как это вынести… Оставь меня…
— Тамара!..
— Оставь меня!..
Она сделала резкое движение к двери.
— Зачем же волноваться так, не понимаю.
Она гордо выпрямилось.
— Между нами все кончено. Среди нас двух вечно будет стоять этот скелет, в котором имеются глаза, уши, сердце, понимание позора, до которого я дошла, и этот скелет будет видеть, слышать, понимать… Между нами все кончено.