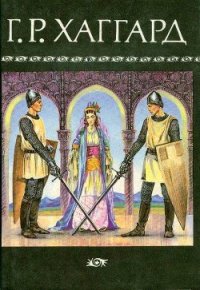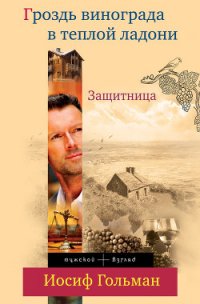Железный доктор (Собрание сочинений. Т. I) - Эльснер Анатолий Оттович (книга регистрации TXT) 📗
— Ах, мой друг, какой дурочкой я должна вам казаться!.. Жалким, глупеньким, больным, несчастным созданием!.. Может быть, я такая и есть, но вы, мой бедный Кандинский, более жалки, чем я — в миллион раз, и я плачу не только о себе, о своем разорванном сердце, в котором было столько нежной любви к вам — я плачу о вас, о вашем глубоком падении, таком глубоком, что вам может позавидовать сам сатана. И не только я вас так поняла, есть у вас и другой обличитель: моя бедная, старая няня, которую так безжалостно выгнали из дома. Я не повторю того, что она рассказывала про вас и страшную жену моего несчастного отца. О, мой друг, вы унижаете себя ложью и притворством: вот мое сердце — вырвите его лучше прямо из моей груди, и это будет благороднее, отдайте его моей мачехе и пусть оно вам обоим напоминает о несчастной жалкой девушке, когда вы будете блаженствовать с нею без нас…
Громкие рыдания прервали ее слова. Я был поражен этим открытием нашего замысла, изшедшим из невинных уст, и стоял в оцепенении.
— А я, Кандинский, я вас любила так, что вы с вашим холодным умом и представить себе не можете глубины моего чувства. Не смотрите на меня, как на жалкое нервное существо: в моем сердце любовь, ненависть и терзание слились и мне остается только возопить к самому небу в горьких жалобах. О, Кандинский, вы воспеваете небо и горы, хотя и здесь вы смеетесь: так знайте же — не только на этой земле, но если бы я была обречена жить с вами на вершине этой скалы, то и там я нашла бы рай и пламя моей души летело бы к самому Престолу Божьему… Но злоба вашей души убивает меня и единственное, чего мне приходится теперь ждать от милосердия Божьего — смерти.
Наконец, она умолкла. Слезы снова полились из ее глаз и, скатываясь по ее лицу, капля за каплей падали в воду. Все это было очень трогательно и я невольно назвал это озеро — бассейном слез. В моем уме прошла странная мысль: слезы вечно текут из человеческих глаз, безостановочно с начала веков, и давно бы уже могла образоваться река, охватывающая серебряной лентой весь Божий мир. Что может быть трогательнее такого зрелища страданий! Судите же после этого о жестокости Провидения: уже не одну тысячу лет страдания гуляют по белу свету и небо смотрит на них холодно и безучастно. Так и мое собственное сердце, сердце Кандинского, от зрелища одних лишь ампутаций давно уже превратилось в лед.
Странно: эта поверхностная, похожая на каламбур мысль шевельнула во мне гордость и злость, и слова девушки о нашем замысле отозвались во мне еще болезненней.
Я ее ненавидел. Моя гордость возмущалась при мысли, что эта невинная девушка развенчивает меня, известного своей положительностью медика, и бесцеремонно ужасается, видя под моей элегантной наружностью другое лицо, по ее мнению, безобразное. Признавать свое внутреннее уродство я не хотел, и в моей душе поднялось холодное глумление. Впрочем, она сама дала обильную пищу этому чувству своими слезами и болезненной любовью ко мне. И я смотрел на нее и думал: «Эта девушка — не что иное, как расстроенная арфа, издающая странные потрясающие звуки от первого прикосновения к ней; все валики раскрутились, штифтики вертятся и пляшут, струны утонились и натянулись. Расстроенный инструмент — не более, и не удивительно, что она вопит, плачет, призывает небеса в свидетели моей жестокости. Положительно, ее не мешает полечить электричеством, как ее брата».
Мне надоела эта сцена. Во что бы то ни стало надо было остановить этот фонтан слез. Пускай она думает, что хочет, но мне остается одно: уверять ее в ее болезненном расстройстве, разбавляя горечь этих слов сладостным елеем звуков о моей любви.
Я сел рядом с ней на скалу, ощущая в этот момент особенное острое наслаждение, перемешанное с душившей меня злобой. Сначала я долго говорил ей о ее болезненном умственном расстройстве, в подтверждение чего приводил ее собственные, будто бы крайне дикие слова о каком-то заговоре против нее. Ничего не стоило осмеять все это и представить, как результат болезни. Прием этот самый обыкновенный в наше время, шаблонный. В удобстве его нельзя сомневаться: вместо всяких доказательств нелепости обвинения, стоит только самого обвинителя окрестить коротеньким словом «ненормален» — просто и удобно.
Она подняла голову и, глядя на меня с кротким укором, жалобно проговорила:
— Дорогой Кандинский, не думаете ли вы с моей мачехой отправить меня в сумасшедший дом?
«Поистине, это блестящая мысль», — подумал я, придавая в тоже время своему лицу выражение ужаса. И этими ее словами я с удобством воспользовался, проговорив:
— Видите, моя деточка, какое у вас болезненное воображение, и это вы говорите мне, Кандинскому, который вас так пламенно любит… Да-да, я вас обожаю… но вы не верите мне и мне хотелось бы это доказать обыкновенным способом влюбленных: прострелить свою голову и умереть у ваших ног.
Мне показалось, что, наконец, я ее победил: глаза ее расширились и засветились. Я ее обнял; но, увы, я напрасно торжествовал: вслед за первым моментом изумленное лицо ее исказилось, по губам пробежала горькая усмешка, и вдруг она истерически рассмеялась.
— Вы, конечно, принимаете меня за сумасшедшую, которой все можно говорить… Мое бедное сердце… Как оно любило вас и как я наказана… Вот, черный ворон, прокаркай мне смерть в наказание за короткое блаженство; я стараюсь не думать, а только любить и пью любовь из ваших лживых уст.
Она охватила мою шею руками и, странно смеясь, впилась своими губами в мои. Все ее тоненькое существо сотрясалось от истерического хохота. Внутри в ней все клокотало и билось.
— Кандинский, теперь я блаженствую, вы видите сами; я не хочу знать, что вы жестоко смеетесь надо мной… Я люблю, наслаждаюсь и кричу на весь мир: в этот момент я счастлива.
Вдруг, перестав смеяться, она сказала, дико сверкнув глазами:
— Ты хочешь умереть? — умрем вместе.
Она потянула меня к воде, но это было уже чересчур, и я, одним движением высвободившись из ее рук, отошел от нее и совершенно спокойно проговорил:
— Оставьте ваши безумные выходки, княжна. Теперь я вам скажу правду: я вас не люблю.
— Благодарю вас за откровенность и простите, что я так увлеклась. Это был припадок, недостойный меня; но он больше не повторится.
Она склонилась над водой и вдруг, перебирая по струнам своей мандолины вздрагивающими пальцами, запела что-то чрезвычайно унылое. Слезы снова полились из ее глаз градом, но я на нее уже не смотрел. Вся эта сцена меня смертельно озлила.
XII
«Все выше, выше и выше, это черт знает что… Гора положительно уходит к самому небу… Чрезвычайно своеобразная мысль назначить свидание на такой высоте».
Рассуждая так с самим собой и опираясь на палку, я подымался все выше по горе, идущей под углом, по крайней мере, градусов сорока пяти. Эти горы вообще порождают полный обман зрения. В особенности издали гора может казаться очень невысокой. Но попробуйте вскарабкаться на нее. Идешь, идешь и нет конца. Надо заметить, впрочем, что по мере восхождения вас начинает охватывать замечательная легкость и как бы вдохновение: невольно кажется, что земля делает человека злым и тяжелым и, только отдаляясь от нее, он получает крылья орла и сердце ангела.
На самой вершине горы виднелась высокая и ветхая башня царицы Тамары. Таких башен и замков доброй царицы в Грузии бесконечное количество, и очевидно, что большинство из них она никогда не удостаивала чести своего пребывания. Как бы ни было, но развалины башен всюду виднеются на вершинах гор и скал, придавая им часто особенную эффектность: иногда, когда облака падают ниже вершин гор, они кажутся висячими в воздухе.
Немного в стороне от башни виднелись верхушки монастыря. Все вокруг было залито сиянием луны и принимало фантастические и таинственные очертания. Идея моей Тамары предаться блаженству любви где-то под облаками все более начинала дразнить мое воображение: только гордые орлы имеют привилегию любезничать на такой высоте.