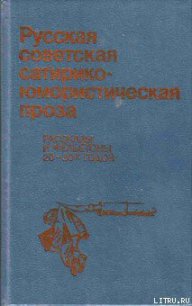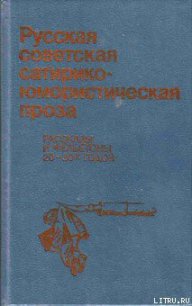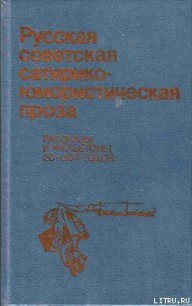Колдовской цветок (Фантастика Серебряного века. Том IX) - Шишков Вячеслав Яковлевич (книги бесплатно без регистрации .TXT) 📗
«Смерть принять решил атаман», — подумал Игнат и на ноги поднялся.
Отошел атаман от края, Игнат его спрашивает:
— Али смерти боишься, Василий Данилыч? Кажись, не срамили тебя сабли турецкие, не пугали пули каленые!
— Страшную смерть Господь Казану посылает за его прегрешения!
Отошел опять Игнат в сторону. Снова к краю пошел Василий Казан. Твердо ступает, шарит край своим посохом. Расступается трава, сочувствует слепому атаману. Дошел до края и остановился Казан.
Повел посохом по бездне и назад повернул. Глубоко вздохнул Игнат. Пропала доблесть казачья. Ослеп атаман и за жизнь цепляется. Встал Игнат на твердые ноги, помолился на церковные главы далекие, шепнул:
— Прости, Марья, за святое рыцарство душу свою молодую отдаю. Вместе с атаманом погибну, зато будет вечно жить казачья удаль. Давай руку, помогу, Василий Данилыч!
Обрадовался слепец, плачет:
— Понял душу мою, Игнатушка. Самого себя, ради моей подлой души, в жертву приносишь. Марья-то как будет!
Отдернул, было, руку Игнат. Вспомнились Марьины глаза и губы сладкие. Но минуту, не больше, это продолжалось. Снова Василий почуял близко руку Игнатову.
— Идем, атаман! Обопрись на меня, Василий Данилыч!
Вместе подошли к обрыву бугра, вместе шаг последний сделали.
— Прощай, Игнат, — крикнул Василий.
«Про…» — ответило эхо далекое. Расступились волны донские, закипели, запенились. Схоронили атамана Василия и молодого казака Игната.
Бурлит под бугром омут глубокий. Дна в том омуте не достанешь. Речной пароход медленно проходит под бугром в тихую ночь. Если взглянет из-за туч луна, она осветит две фигуры на высоком бугре. То казак Василий с Игнатом к краю подходят. Днем они в ветлы седые превращаются. Днем ведь солнце палит, печет!

Николай Карпов
КОЛДУНЬЯ
Павел медленно шел по порубу узенькой, поросшей кудрявой муравой дорожки, которая вела к крупному лесу. Желтый Султан, помесь дворняжки с гончей, шнырял по кустам, обнюхивая траву, выбегал на дорожку и снова с треском скрывался в густой зелени поруба. Лесник, по привычке, прислушивался к лесным шорохам, и ухо его различало и резкое постукивание дятла, доносившееся из крупного леса, и монотонное жужжанье насекомых в зеленой траве, и предвечернюю болтовню дроздов на опушке. На краю оврага, отделявшего крупный лес от поруба, Павел услышал сердитое ворчали Султана и, переложив берданку из правой руки в левую, бросился в овраг, цепляясь за ветки свободной рукой, Впереди затрещали кусты, и навстречу ему вышла молодая высокая баба в красном ситцевом сарафане и белом платке. Смуглое, с большими карими глазами и вздернутым носом, лицо ее было угрюмо, бледные бескровные губы были плотно сжаты. Подол ее красного сарафана был высоко подоткнут, из-под него виднелась белая домотканая рубаха.
Павел остановился, отозвал собаку и строго сказал:
— Ты чего здесь шатаешься?
Баба спокойно взглянула на медную бляху на его сером кафтане; перевела взгляд на медного орла на его шапке и, сунув пучок травы в подол, тихо ответила:
— Травы собираю… А ты аль испугался, думаешь, чай, все твои ягоды унесу? Мне, милый, ни твоих ягод, ни грибов не надобно… — и она улыбнулась, сверкнув белыми зубами…
Лесник сердито взглянул на нее: он привык видеть у баб, которых заставал в лесу без билета, испуганные лица и молящие взгляды.
— А билет у тебя есть? Без билета по лесу ходить не полагается… Возьму вот, да представлю тебя на кордон к объездчику…
— Аль тебе травы жалко, сам ее сеял, што ль? Аль сам ее будешь жрать, траву-то? — насмешливо заговорила баба, поправляя загорелой рукой на голове платок.
— Убирайся из леса — и весь сказ… Еще разговаривает! Иди, добром говорю… — сказал Павел и с угрожающим видом сделал шаг вперед.
Баба взглянула ему прямо в глаза холодными карими глазами, выбросила из подола пучок травы и, повернувшись, пошла по тропинке из оврага.
Лесник молча пошел за ней, вышел из оврага и, провожал ее глазами, остановился у опушки. Баба перепрыгнула через канаву, отделявшую казенный лес от крестьянского поля, перешла узенькую полоску темного пара, вышла на дорогу, ведущую к селу и, повернувшись к леснику, звенящим голосом крикнула:
— Погоди-ты, черт комолый, ты меня попомнишь! Травы тебе стало… жалко? Лихоманка тебе в ребра, идол толсторожий. Погоди, я те покажу!..
— Ведьма проклятая, — пробормотал Павел и, вскинув берданку за плечи, зашагал к кордону.
Дома, вешая ружье на гвоздь, он сказал жене:
— Знаешь, Варька, кого я встретил в лесу-то? Агашку-знахарку…
— Да ну? — и Варька выжидательно посмотрела на него.
— Травы какие-то собирала… — продолжал Павел, садясь за дубовый стол, — да я ее прогнал к черту… Грозилась, лихоманку сулила, проклятая…
— Зря это ты, Паша… — тихо сказала Варька, громыхая в печке ухватом, — и взаправду напустит… Шут с ней, пускай бы собирала траву, ай ее мало в лесу-то…
— Много ты понимаешь! — раздраженно вскричал Павел. — Рази я могу дозволять, штобы без билета по лесу шлялись? Для чего я здесь приставлен? Для охраны! Ну, то-то и оно… Давай ужинать, пора… — прибавил он уже спокойнее.
Варька подала на стол чашку со щами, ложки и краюху хлеба.
Несколько минут они молча хлебали щи.
— Не могу я дозволить, чтобы по лесу шлялись… — заговорил снова Павел, словно оправдываясь. — А может, она пришла лыки драть, бес ее знает… А я за все в ответе…
— А все-таки зря ты ее обидел… — упрямо повторила Варька, — она может тебе всякую пакость устроить… Слыхал, чай, как она Васьки Бубнова мальчонку испортила? Пришла, вишь ты, она к Ваське за картошкой; он ее прогнал да еще обругал черным словом. Она ему пригрозила, а к вечеру мальчонка его весь в жару мечется, анчутки ему представляются… Беспременно, она наслала… А у Микишиных сразу обе коровы сдохли, так тоже, говорят, она подстроила… Сердита она была на них…
— Мало ли што болтают, стану я всякие бабьи россказни слушать! — вскричал Павел и встал из-за стола.
Варька убирала посуду.
— Надоть Султану хлеба бросить… — сказал Павел и вышел из избы. Он сел на бревно у завалины, бросил собаке хлеб и, свернув цигарку, закурил. В нем нарастала какая-то смутная тревога, предчувствие какого-то неизбежного несчастья, в глубине души он уже раскаивался, что обидел Агашку. Ночью, лежа на нарах рядом с женой, он ворочался с боку на бок, вздыхал и не миг заснуть. Неотвязная мысль, что колдунья отомстит, как назойливый комар, не дала ему заснуть до рассвета. А на дворе неистово лаял Султан и со злобным ворчаньем бросался в лес, но Павел не решался выйти из избы и взглянуть в темноту.
Рано утром, невыспавшийся и злой, Павел пошел в обход и вернулся к обеду мрачный, как туча.
— Аль порубку нашел? — робко спросила Варька, собирая обедать.
— Не хочется… — неохотно ответил Павел. — В груди сосет што-то…
Варька испуганно взглянула на него, взгляды их встретились, и Павел насупился.
— Беспременно это она, проклятая… — плачущим голосом вслух докончила свою мысль Варька.
Павел молча, с усилием, прожевывал хлеб, пища не шла ему в горло, руки его стали словно деревянные, он испытывал странную безотчетную тоску, делавшую его тело вялым.
После обеда он долго лежал на нарах, потом встал и стал надевать кафтан…
— Аль в обход? Не ходил бы уж, коли нездоровится… — сказала Варька.
— На село пойду… Табаку нужно купить… — тихо ответил Павел и вышел из избы. Султан радостно бросился ему навстречу, но он схватил его за ременный ошейник, запер в сенях и пошел по дороге к селу.
Через час он сидел в избе бабки Луканихи, торговавшей тайно водкой.
Маленький огарок сальной свечки тускло освещал закоптелые стены избы и блестел на зеленоватой бутылке и на образах в переднем углу. Двое белоголовых ребятишек, прячась за печку, с любопытством смотрели на гостя. Павел пил теплую, противную на вкус водку, закусывал солеными огурцами и говорил бабке Луканихе, маленькой старухе со сморщенным лицом, напоминавшим печеное яблоко: