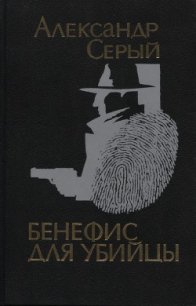Серый мужик (Народная жизнь в рассказах забытых русских писателей XIX века) - Вдовин Алексей "Редактор" (читать книги онлайн полностью .TXT) 📗
И снова шли ходоки в далекий, не понимавший их город, ходили долго и опять ни с чем возвращались домой. Писали графу — граф жил за границей и ничего не отвечал им; немец-управляющий гнал их, не желая слушать. В последнее время составляли приговоры «об отобрании земли у графа» и вручали их земскому начальнику для представления высшему начальству, но земский грозил и ругался, брал себе приговоры и никому не отсылал их.
Так двадцать лет тянулась эта бесплодная история — бесконечная, старая, обыкновенная, всем надоевшая история мужичьей темноты, задавленности и бесправия.
И никто не мог их убедить, что уже бессилен теперь «добрый московский царь Алексей Михайлович» и бессильно его «могучее царское слово», и никто не мог доказать им, что бессильна теперь та правда, в которую одну они верят, которую ищут и не могут не искать, ибо глубоко заложена жажда ее в темных недрах их измученной молчаливой души.
В светлое майское утро, когда разлившаяся Волга и полная бурная Уса были особенно прекрасны, отражая в себе зеленые горы, когда радостное весеннее солнце насквозь пронизывало золотым своим светом прозрачный молочно-синий туман, поднимавшийся над ширью отрадно свежей, исполненной величавой неги, силы и спокойствия гигантской реки, в это дивное утро в чудной изумрудной долине, обрамленной полукругом разодетых в нежную зелень гор, на границе крестьянской и графской земли происходило что-то необыкновенное.
Тысячная толпа с женами и детьми, с целым табором телег, сох и лошадей расположилась в поле.
Вся Селитьба выехала сюда, и, кроме нее, пришли толпы из соседних деревень и маленького городка, который чуть виден был отсюда на горизонте сквозь редеющий золотой туман.
Весь этот народ галдел и копошился, как на ярмарке. Лошади из телег были выпряжены и паслись рядом. Оглобли подняты кверху. Почти у каждой телеги пылал костер, на котором женщины готовили пищу, и эти бесчисленные огни придавали колоссальному табору нечто древне-дикое. Говор мужчин и женщин, писк и плач ребят, ржание лошадей — все это создавало настроение чего-то необычного.
А вдоль межи на целую версту растянулись цепью триста или четыреста сох с запряженными в них лошадьми. И вся эта картина удивительно гармонировала с могучими горами, курганами, огромной сверкающей рекой и лесом, бесконечным лесом, что покрыл собою весь горный хребет, отразился в реке и ушел до края нежно-голубого неба.
Около межи, в центре всего табора, стояло два больших стола, накрытых скатертью.
На одном из них лежали предметы и церковная утварь для молебна.
На другом столе были приготовлены письменные принадлежности — перо, чернила, бумага — и лежала знаменитая кожаная сумка с «царской грамотой».
Маленький, старенький селитьбенский попик уже надел ризу и выправлял из-под нее жидкие седые волосы.
Толпа, стихая, тяжело и плотно сгрудилась к столам и обнажила головы. Впереди всех стояли старшины, сотские и несколько самых старых крестьян с длинными седыми бородами.
Начался молебен.
В тишине издалека доносился густым, чуть слышным струнным звуком шум леса и волн…
Накануне этого дня крестьяне села Селитьбы собрались на сходе и составили приговор о «полевом суде».
Решили они выехать в поле, созвать туда со всей округи окольных людей, пригласить графского управляющего, уведомить об этом исправника и земского начальника и в присутствии окольных людей, пред лицом начальства, показать управляющему «царскую грамоту», а затем потребовать, чтобы и он положил на стол рядом с ней те документы, по которым граф владеет землей. И тогда как решат окольные люди, так и будет: коли присудят землю графу — покориться и разойтись, а присудят мужикам — то запахать ее тут же, торжественно, всем селом: пусть тогда граф судится и сам доказывает свое право.
Но если при запашке графские люди и городская полиция будет препятствовать, то ни в каком случае не сопротивляться и не прибегать к насилию, а чтобы не оклеветал кто-нибудь крестьян в сопротивлении властям, то не брать с собой никому ни палки, ни прутика, ни даже кнута для лошади: пусть не смешивают их поступок с разбоем, насилием и захватом чужой собственности, — они хотят добиться правды, законности и вынуждены после двадцати лет бесплодных страданий обратиться к «полевому суду».
Густо вздыхала толпа, и ровною певучей волной доносилась музыка соснового бора.
Вдали, с горы, со стороны графской усадьбы, спускался по дороге экипаж и несколько всадников.
Молебен кончился.
Толпа опять загудела. Выделялись отдельные восклицания:
— Исправник едет!
— А верхами-то — урядники!
— Управитель-то! Рядом с исправником.
— И земский с ними!
— И все — на графских лошадях! Ха-ха!
Послышался презрительный смех.
Скоро к табору подкатила щегольская коляска, запряженная парой вороных лошадей. Коляску сопровождал наряд конных урядников.
Мужики стихли и сняли шапки.
Из коляски медленно вышло начальство.
Пожилой исправник походил на червонного короля: борода его, длинная, волнистая, слегка разделенная внизу на две половины, почти уже седая, ниспадала на высокую грудь.
Земским начальником был мешковатый, неуклюжий господин медвежьего телосложения, рыжий, сутулый, со взглядом исподлобья, с тупой жестокостью и злой ограниченностью в выражении угрюмого, грубого лица. Даже фуражка с красным околышем сидела на его круглой стриженой голове как-то слишком определенно и бесповоротно, а широкий плоский затылок внушал безотчетный страх.
За ними из коляски выпрыгнул управляющий — немец с черной бородой, в соломенной шляпе и парусиновом костюме. Он смотрел на толпу брезгливо, не скрывая своего презрения.
Старшина и один из стариков поднесли исправнику «хлеб-соль». Над толпой невнятно звучали отрывочные фразы короткой речи, которую сказал старшина:
— …Хлебом живем — хлеб и подносим… не обессудь… не за худом собрались… изволь выслушать…
Исправник движением руки велел положить хлеб обратно на стол и сам подошел к столу вместе с земским, управляющим и урядниками. Толпа раздалась, приняла их в себя и затем опять сомкнулась вокруг них густым широким кольцом.
Исправник быстрым взглядом окинул море голов, табор, костры и сохи и спросил мягким, хриповатым басом:
— В чем дело? Зачем собрались?
Вся толпа заговорила разом. Даже бабы что-то кричали, волнуясь и поднимая руки к небу.
Исправник замахал рукой:
— Тише! Молчите! Говори кто-нибудь один… выборные!
Выступили вперед опять старшина, несколько стариков и молодых.
— Мы — выборные!
— Пусть кто-нибудь один!
Раздались голоса из толпы:
— Епанешников, говори! Или ты, Башаев!
Стал говорить Башаев, молодой, лет тридцати, живой, энергичный мужик небольшого роста, с курчавой светлой бородкой.
— Ваше благородие! — взволнованно, смело, звонким голосом крикнул он. — Мы не воровать приехали! Мы приехали свою землю пахать! Свою! Будьте свидетели! Вот здесь налицо господин управляющий, а вот окольные, посторонние люди — мы сами их призвали! Пусть нас здесь рассудят, будем в поле судиться, как наши прадеды судились! Ваше благородие! Посмотрите: вот на этом столе лежит царская грамота, царская! Дарственная! От самого царя Алексея Михайловича. Наша земля! Почему же ей владеет граф? Пускай господин управляющий положит на другой стол графскую грамоту! Может, его грамота сильнее — тогда мы уедем, там уже окольные люди будут судить! Мы требуем, нам желательно, чтобы показал, положил… Мы двадцать лет… Пусть положит!
Звонкий голос его разносился по всему полю.
— Пусть положит! — густо откликнулась толпа.
Исправник затряс бородой, и толпа, погалдев, стихла. Вперед выступил управляющий, желая что-то говорить.
Он говорил тихо, спокойным голосом, и его речь плохо была слышна в задних рядах.
— Я не понимайт… — доносились ломаные слова. — Какой такой полевой суд?.. Зачем суд? Какое имеет право? Я не обязан… ничего не покажу…