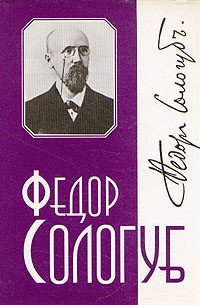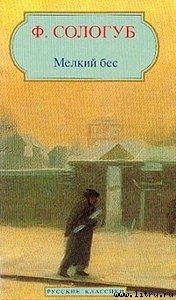Мелкий бес - Сологуб Федор Кузьмич "Тетерников" (читать полностью книгу без регистрации .TXT) 📗
Завидовал же он, как и многие, как-то бездумно, непосредственно, — ведь сам-то он был не наряжен, чего бы, кажись, завидовать! А вот Мачигин, так тот был в необычайном восторге: кокарда особенно восхищала его. Он радостно хохотал, хлопал в ладоши, и говорил знакомым и незнакомым:
— Хорошая критика! Эти чинуши много важничают, кокарды любят носить, мундиры, вот им критику и подпустили, — очень ловко!
Когда стало жарко, чиновник в халате принялся обмахиваться веником, восклицая:
— Вот так банька!
Окружающие радостно хохотали. В шайку сыпались билеты.
Передонов смотрел на веющий в толпе веник. Он казался ему недотыкомкой.
Позеленела шельма, — в ужасе думал он.
[Были в маскараде и писатели, Шарик и Сергей Тургенев. На обратном пути в столицу они опять приехали в наш город. Обрюзглые и пожелтелые от пьянства, они, однако, казались еще молодыми. Крепкие были у них натуры, хоть и уверяли они своих доверчивых приятелей, что страдают болезнью «великого Надсона». Шарик был, как и всегда, в блузе.
— Это интернациональный костюм, — объяснял он Володину. — Все интеллигенты должны носить.
Он сохранял на своем лице преувеличенно-насмешливое и угрюмое выражение. Он презирал эту веселящуюся толпу. Тургенев был любезнее. Он смотрел снисходительно.
— Есть нечто опьяняющее в банальных и глупых увеселениях толпы, — тихо говорил он Шарику, — впечатление такое, точно берешь грязевую ванну.
— Протобаналы! — сердито проворчал Шарик.
— Да, весь этот блеск скучен для меня, как чужая радость, — сказал Тургенев. — Слушайте, Шарик, — как вам нравится это сравнение: скучный, как чужая радость? Я его вставлю в свою новую новеллу.
— Превосходно, — похвалил Шарик, — в самую точку потрафило. Действительно, чужая радость — зрелище изрядно-таки омерзительное.
Тургенев и Шарик пошли в буфет пить чай.
— Я набросал сегодня, — рассказывал Шарик, — критический этюд, содержание которого вас заинтересует.
— Понятно, — сказал Тургенев, — что вы написали, то не может быть не интересно.
— Да, конечно, — согласился Шарик. — Так вот моя тема — Некрасов и Минаев.
— Пфа! — презрительно сказал Тургенев.
— Подождите, — остановил Шарик, — я доказываю, что Некрасов, — заметьте, фактически доказываю, — Некрасов завидовал Минаеву.
— Ого! — воскликнул Тургенев, и засмеялся, — невероятно, но мило. Бесспорно мило.
— Да, да, завидовал, — убежденно говорил Шарик. — Да и нельзя, в сущности, не завидовать: зависть — необходимая принадлежность настоящего литераторского темперамента.
— Да, вы, может быть, правы, — задумчиво сказал Тургенев. — Я понимаю Сальери.
Меж тем в дверях буфетной собралась толпа. Смотрели на писателей, обменивались замечаниями. Это сердило Шарика. Он встал, нахмурился, почесал затылок, и произнес грубым голосом:
— Послушайте, эй, вы, субъекты, чего вам надо? Чего вы здесь не видали.
— Ш-ш, ш-ш, — раздалось в толпе, — говорит, говорит что-то.
Вдруг стало очень тихо, и Шариков голос раздавался беспощадно-ясно в этой предательской тишине:
— Я приехал сюда изучать ваши нравы, а вовсе не затем, чтобы торчать перед вами чучелой гороховым. Я — литератор, а не водолаз, не Венера голопузая. Глазеть на меня нечего, у меня такое же рыло, как и у всякого здешнего прохвоста, и пью чай я тоже ртом, а не носом и не другим каким отверстием.
— Ловко! — крикнул кто-то в толпе.
Кто-то злобно зашикал, кто-то засмеялся. Шарик продолжал, все громче и сердитее:
— Мы с Сергеем Тургеневым сели чаю похлебать, а вы проваливайте, пляшите. Чем буркалы на нас пялить, вы лучше наши книжки внимательнее читайте, а то скоро корою зарастете, а не учухаете. Другие беллетристы только мои предтечи… наши с Сергеем Тургеневым предтечи, — вот вы нас и читайте, учитесь уму-разуму, уж мы вас худому не научим.
Он отвернулся от толпы, сел, налил чаю на блюдечко, поставил блюдечко на распяленные пальцы, и нарочито-громко хлебнул. Пестрая толпа, рукоплеща оратору, со смехом расходилась. Слышались одобрительные возгласы:
— Ловко отделал!
— Ай да писатель!
— Этот за словом в карман не полезет.
— Ловкий малый!
— Так нам, дуракам, и надо!
— Чего, в самом деле, глазеть! Невидаль!
Чиновник с веником махал своими прутьями, усиленно кривлялся, и приговаривал:
— Вот и баня. Знатно здесь парят нашего брата.
Тургенев не сделал попытки остановить Шарика. Он сладко улыбался, и мечтал, что эта бестактная выходка попадет в газеты и осрамит Шарика. Когда зрители ушли, Тургенев сочувственно пожал Шарику руку, и сказал:
— Эта речь останется знаменательным фактом в вашей биографии. Запишите ее, пока не забыли, — а то исказят.
— Да, спасибо, наваляю, — сказал Шарик, — я и сам чую, что это у меня здорово выперло.
— Знаете ли, — сказал Тургенев, — когда слышишь такие речи, то у души вырастают крылья, белые, острые, как у демонов.
— Это вы ловко придумали, — поощрил Шарик. — Мы с вами сегодня в ударе.
Тургенев сделал мечтательные глаза, и сказал:
— Сегодня, пока вы писали, я бродил в лесу, за городом. Я беседовал с цветами, с птицами, с ветром. Я был счастлив.
— Если взять с собою водки или рому, — сказал Шарик, — то в лесу распреотлично.
— Нет, я не был пьян, — возразил Тургенев. — Душа моя родственна облакам, изменчивым, — и прекрасным. Вы видите на глазах моих слезы? Эти слезы — от избытка нежности.]
Наконец начался счет полученным за наряды билетикам. Клубские старшины составили комитет. У дверей в судейскую комнату собралась напряженно-ожидавшая толпа.
Кто-то уверял, что оба приза достанутся актерам.
— Вот вы увидите, — слышался раздраженный шепот.
Многие поверили. Толпа волновалась. Получившие мало билетиков уже были озлобленны этим. Получившие много волновались ожиданием возможной несправедливости.
Вышли судьи: Верига, Авиновицкий, Кириллов, и другие старшины. Смятение волною пробежало в зале, — и вдруг все затихли. Авиновицкий зычным голосом произнес на весь зал:
— Приз, альбом, за лучший мужской костюм присужден, по большинству полученных билетиков, господину в костюме Древнего Германца.
Рослый Германец стал пробираться через толпу. На него глядели враждебно. Даже не давали дороги.
— Не толкайтесь, пожалуйста! — плачущим голосом закричала унылая дама в синем костюме, со стеклянною звездочкой и бумажной луною на лбу, Ночь.
— Приз дали, так уж и вообразил о себе, что дамы перед ним расстилаться должны, — послышался из толпы злобно-шипящий голос.
— Коли сами не пускаете, — со сдержанной досадою ответил Германец.
Наконец он кое-как добрался до судей, и взял альбом из Веригиных рук. Музыка заиграла туш. Но звуки музыки покрылись бесчинным шумом. Посыпались ругательные слова. Германца окружили, дергали его, и кричали:
— Снимите маску!
Германец молчал. Пробиться через толпу ему бы ничего не стоило, — но он, очевидно, стеснялся пустить в ход свою силу. Гудаевский схватился за альбом, и в то же время кто-то быстро сорвал с Германца маску. В толпе завопили:
— Актер и есть!
Предположения оправдались: это был актер Бенгальский. Он сердито крикнул:
— Ну, актер, так что же из того! Ведь вы же сами давали билеты.
В ответ раздались озлобленные окрики:
— Подсыпать-то можно!
— Билеты ведь вы печатали!
— Столько и публики нет, столько билетов роздано.
— Он полсотни билетов в кармане принес.
Бенгальский побагровел, и закричал:
— Это подло так говорить. Проверяйте, кому угодно, — по числу посетителей можете проверить.
Меж тем Верига говорил ближайшим к нему:
— Господа, успокойтесь, — никакого обмана нет, ручаюсь за это: число билетов проверено по входным.
Кое-как старшины с помощью немногих благоразумных гостей утишили толпу. Верига объявил: