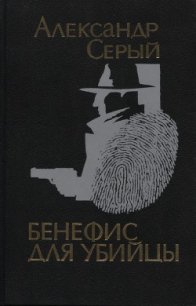Серый мужик (Народная жизнь в рассказах забытых русских писателей XIX века) - Вдовин Алексей "Редактор" (читать книги онлайн полностью .TXT) 📗
Иногда проходили по дороге кучки солдат, возвращавшихся по домам; порою проезжали новобранцы, — и в то время, как провожавшие их бабы хныкали и утирали покрасневшие от слез глаза, молодые рекруты, буйно заломив шапки набекрень, с напускным весельем горланили песни — громко и несвязно. Иногда проходили арестанты — худые, бритые, уныло позвякивая цепями, а за ними штыки ярко поблескивали на ружьях конвойных, шедших мерною поступью. «Несчастненьким» на Васютине всякий подавал что мог.
Нередко тянулись по дороге длинные обозы, поскрипывая колесами, — и тогда в воздухе сильно припахивало дегтем. Иногда проходил цыганский табор, пробираясь на кочевья… На больших телегах везли сложенные белые палатки, короба с каким-то тряпьем, и из них выглядывали темноволосые, курчавые головы ребятишек; по сторонам шли или ехали верхом цыгане; шли смуглолицые женщины с красными рваными шалями на смуглых плечах, — сухие черные волосы прядями выбивались из-под небрежно повязанных платков, и острые, проницательные глаза светились ярко, как угольки, из-под черных нависших бровей и зорко взглядывали по сторонам. За телегами следом шли поджарые собаки, уныло поджав хвост и низко понурив голову Об этих кочевниках у нас шла дурная слава. Говорили, что цыгане мошенничают, обменивая хороших лошадей на своих жалких кляч: для этого они будто бы предварительно подбодряют их нещадными ударами кнута, — так что самое смиренное животное, разбитое на все четыре ноги, вдруг делается зверь зверем, и ловкий цыган выделывает на нем перед покупателем такие отчаянные курбеты, что все только ахают от удивления. Про цыганок говорили, что они, под предлогом ворожбы и гаданий, втираются в дома к добрым людям и крадут кур, яйца, холст, одежду и вообще всякий домашний скарб, плохо лежащий. Даже о цыганских собаках рассказывали, что они приучены давить овец и телят…
Каждую неделю два раза, взад и вперед по дороге, проносилась «почта» на тройке добрых коней, поднимая за собой облака серой пыли; колокольчик звенел, заливался под дугой, бубенчики громко звякали и шуршали на шее пристяжных; ямщик с блестящей бляхой на шапке лихо покрикивал и крутил арапником, а на телеге, на тюках, покрытых кожей и перевязанных веревками, сидел, примостившись боком, почтальон — усталый, измученный, полусонный, — и при каждом толчке его форменная фуражка, казалось, готова была слететь с его головы, качавшейся из стороны в сторону, а старый, заржавленный пистолет чуть не выскакивал у него из-за пояса… Иногда проезжали бары, чиновники, купцы. В год или в два года раз в карете шестерней, цугом, провозили губернатора и архиерея. При этом ямщикам бывало немало хлопот: крестьянские лошади, не привыкшие к такой парадной езде, поминутно сбивались, путались в постромках; ямщик кричал и трещал своим длинным арапником, а паренек, скакавший форейтором, чуть не ревел ревмя… В прежние годы придорожным бульваром иногда проводили медведя, и Мишка тяжело переваливался, идя на цепи за своим провожатаем. Как-то уже давно, лет тридцать тому назад, по «большой дороге» однажды провели даже одногорбого верблюда, и это животное, — невиданное и неслыханное в нашей стороне, — произвело у нас на Васютине страшный переполох и повергло в ужас одну выжившую из ума старуху, принявшую его, кажется, за апокалипсического зверя. Толпа народа шла вплоть до постоялого двора, где верблюд останавливался на ночевку…
На протяжении версты от деревни дорога извивалась широкой пыльной лентой, осененной по сторонам зеленью кудрявых берез, затем круто поворачивала на запад, а там, еще далее, пролегала через кустарник и наконец уходила в лес.
В детстве для меня в «большой дороге» заключалась особенная прелесть, полная таинственности и очарований. Туманная даль, в которой пропадала дорога, какою-то невидимою силой привлекала меня, неотступно манила, звала к себе… Летним вечером, бывало, я любил сиживать при дороге, прислонившись спиной к белостволой березоньке, и смотреть на эту пыльную дорогу, по которой проезжало и проходило куда-то столько народа. И карета, тихо покачивавшаяся на своих рессорах, и лихая почтовая тройка, и арестанты в серых халатах, и странники, и убогие — все направлялись по этой дороге и скрывались в синевато-серой дали. Куда, зачем шли и ехали все эти люди? Куда они спешили? Кто их ожидал там? И я невольно засматривался в ту сторону, куда уходила дорога и где солнце по вечерам западало за лесистый край земли, надолго оставляя после себя на небе яркий отсвет. И подолгу задумчиво смотрел я в эту сияющую даль, и смутные думы, смутные образы проносились в моей детской голове… Мне хотелось самому пойти по этой дороге, усаженной березами, пойти далеко-далеко вместе со всем людом, проходившим по ней. Мне хотелось дойти до конца ее и посмотреть, что там есть? Какие люди там живут и как живут?..
Дорога ведь уходила туда, куда заходило и солнце; дорога скрывалась в золотисто-розовой дали… И мне невольно думалось, что там, куда она уходит, должно быть очень хорошо, светло и радостно. Когда у нас на Васютине уже почти наступала ночь, там все еще горела заря, и долго-долго светилась она там после того, как над нашими полями и болотами спускались полупрозрачные, синеватые тени летней ночи. Когда яркая полоса на западе потухала, вместо нее над темным лесом еще долго мерцал нежный, розовый свет. Зубчатые вершины еловых лесов, подернутых синеватою тенью, резко обрисовывались на ясном небе. В вышине проступали звезды, тихо мерцавшие бледным, серебристым светом. От свесившихся надо мной зеленых ветвей веяло вечернею прохладой… Болото, лежавшее прямо против меня по ту сторону дороги, поросшее ивой, низким вереском и можжевелом, утопало в ночном сумраке, а на более низких местах и вдоль речки, извивавшейся по болоту между кустами ив и ольхи, полосами стлался белесоватый туман.
Давно уже прогнали домой деревенское стадо; треск бича уже замолк… А я все еще сидел под березой и, не то засыпая, не то бодрствуя, смотрел на пыльную дорогу, серою лентой извивавшуюся передо мной и пропадавшую в сумраке наступившей летней ночи. Как будто сквозь сон, слышал я доносившийся издали глухой лай деревенских собак, видел тройку «обратных» почтовых лошадей, шагом возвращавшихся домой, видел ямщика, развалившегося в телеге на охапке зеленого сена и напевавшего песенку. Я слышал ленивое позвякивание колокольчика, шуршанье бубенчиков, — и до меня доносились все одни и те же унылые слова:
Посреди Васютина есть небольшая площадка, а на ней стоит небольшая часовня. Крест и купол часовни покрыты белой, блестящей жестью, а кровля ее, стены и деревянная решетка вокруг — ярко расписаны зеленой, синей и красной краской. У дверей сбоку прибита зеленая кружка для сбора пожертвований. Эта ярко расписанная часовенка невольно бросается в глаза и цветистым пятном резко отделяется на сером фоне окружающих ее крестьянских изб. В часовне стоят три потемневших образа, и перед ними висит большая медная лампада на заржавленной железной цепочке. В часовне постоянно — сумерки. Только два раза в год убогая внутренность ее ярко освещается лампадой и десятками восковых свечей; накануне Ильина дня, девятнадцатого июля, в ней служит всенощную приходский священник, и в самый Ильин день служится молебен. В Ильин день Васютино гуляет… Еще за неделю до праздника начинают сборы, варят пиво, закупают водку, моют и чистят избы. Три дня гуляет Васютино… Многие из ныне живущих васютинцев уже забыли, а иные и вовсе не знают, по какому случаю выстроена их часовня и почему так торжественно «справляют» они Ильин день…
Лет пятьдесят тому назад страшная гроза разразилась над Васютиным в Ильин день. Такой бури не запомнили самые древние старожилы. Среди белого дня стало темно, как ночью: вихрь вырывал деревья с корнем, сносил кровли, разрушал сараи и риги; градом выбило дотла не только хлеб, но даже траву на лугах; вода в реке замутилась и под напорами вихря плескалась далеко на берег. Молнии бороздили небо, и испуганным людям казалось, что небо, все полыхавшее огнем, раскрывалось над ними; какой-то зловещий, багровый свет обдавал деревню, поля, луга и леса кругом нее. Несколько человек было убито молнией, многие были оглушены… Люди метались, как угорелые, туда и сюда; то заберутся в избу, спасаясь от града, то из опасения быть раздавленными в домах бегут на улицу. Думали, наступил конец свету… Вот после этого-то погрома васютинцы и решили выстроить часовню, поставить в ней образ Ильи Пророка и в молитве проводить двадцатое июля. Страшный погром понемногу забывался, и Ильин день мало-помалу превратился в обыкновенный пивной праздник, и едва ли найдутся теперь двое-трое из васютинцев, которые вспомнили бы в этот день об ужасах, пережитых их отцами полвека тому назад.