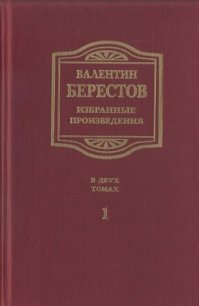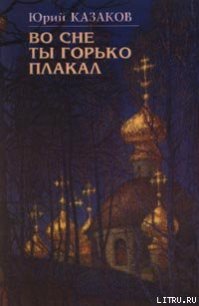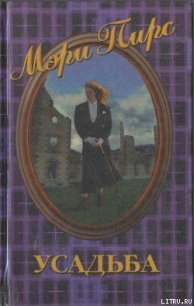Страшная усадьба (Избранные рассказы) - Городецкий Сергей Митрофанович (мир бесплатных книг TXT) 📗
И плакал. Все отрывались от своего на время песни, и так сидели мы на куче мягкого с вытянутыми шеями и летящими глазами на высоте подоконников, а сумерки текли, и капали черные капли вечерней тьмы.
Но после песни всегда становилось лучше. Отыскивалась возможность новых соединений, или пол утихал, и мы, сестра с сестрой, брат с братом, умирали в молчании, почти блаженном и освежающем душу, как ветер нашу треокую комнату.
Огнем были свечи — на этом все настаивали, несмотря на скудость заработков. И ровный свет таинственных их языков, навеки определенных и не заключенных ни в какие видимые пределы, мирил нас еще больше с тесной человеческой судьбой.
Страсть вспыхивала радостно непрерывной цепью. Две женщины смеялись, как наяды. Цветные тряпки двигались, как волны между тел. Попавшийся под руку рукав пальто смешил, как странный, слишком плотный предмет из нижнего мира: на последних небесах бывали мы.
Мальчик умер. Опустились утлы губ у согласия. Фуя выплакала последний цвет из своих вялых глаз. Я сделал гроб. Три дня стоял наш мальчик. Те же свечи. Те же три окна. Страх.
То есть мы без него.
Мы положили самую яркую из тряпок в этот гроб, и даже священник, пришедший, как ворон на падаль, не спросил: зачем.
Нас стало четверо и, истощив всю страсть, мы вяли, как листы на сорванной ветке. Пришла первая Кизи и ушла. Обожгла меня призраком любви двух. Хорошо, что ушла. Я принес вторую Кизи.
И тут события, вихрясь и спутываясь так странно, что не надо говорить о них, соединили нас с Тем, кого мы ждали всей смутой жалких наших душ и всем стремленьем искалеченного нашего тела.
Но умолчу о всем, что было вначале.
И о лице Его.
И о словах.
И о делах предыдущих.
Все это ведомо и позабыто, и слепцы не увидят все равно, если и показать.
Но заговорю о природе. Мы отреклись от нее, но Он вернул ее. Мы не видели, как за окнами комнаты таял снег, и черные трещины бороздили белизну. Как порыжело все и потемнело. Мы не слышали, как засвистели птицы.
Он распахнул нам очи, как очи комнаты, застоявшейся и нагревшейся нашим теплом.
Он отказался показать нам свое тело и на просьбу нашу показал в эти очи на пустырь:
— Вот мое тело.
Мы пригляделись молча и недоверчиво к весенней земле. Но разглядели что-то сразу. Будто свежим полотенцем вытерлись, и ужаснулись отпечатавшихся там ликов. И полилась нам в душу расцветающая благодать Его тела — вешней земли.
Мы растащили по комнатам свою кучу, платья, мягкое, и жили как аскеты. Мы постились. За постом начиналась настоящая жизнь. Моя Кизи, привыкшая ко мне всем соком своего хрупкого тельца, как сосунок к матери, отошла и смотрела в Его лицо.
Но умолчу о лице Его.
Она первая назвала Его: Учитель.
Нам так хотелось бы слов и сказок, но молчалив был он и скромен. Ничем не вмешиваясь в нашу жизнь, ни одним намеком не задевая ее, Он одним своим присутствием всю ее переменил. Прошлое стало липким и темным, как гречишный мед. Ушли от него. И шли куда-то, совсем как ученики за своим немым Учителем.
Не отреклись мы от своего многоликого тела, но увидали всю неправду прежней ласки: ласки от отчаянья. И уж предчувствовали, какая будет новая — от веры.
Стало лето. Еще город был мокрый и грязный, но прямо у нас за домом зеленели луга двойной зеленью: прошлогодней и вешней. Мы ходили на опушку слушать визг птиц и похожи были на стариков, чудесным образом поднятых с одра. Наши женщины потеряли бледность на щеках и синеву под глазами. Однажды побежали даже мы по рыхлой, влажной от недавних снегов земле, как дети, вспомнив, что нам всем вместе едва больше ста лет.
А он все знал это раньше и отвечал нашей внезапной радости из глубины своих глаз благодатным светом.
Но и о глазах Его умолчу.
Мы никли к нему, как тростник к воде. И вот уже стали и жить Им.
И мимолетная тень ушедшего нежного мальчика, улетевшая душа наша, поблекла перед этим сильным духом.
Мы ждали только чуда, таинственного какого-то мига, чтобы все стало иным. Он тоже ждал. Он никогда не говорил нам о себе, но тело Его истончалось на глазах, и будто ожидая встречи с кем-то, Он томился неотданной страстью.
— Он ждет невесту, — сказала Кизи, почти ревнуя к ней кровью своих ран, уже затянувшихся под Его благодатью.
Он ждал ее. Он почувствовал ее приближение в солнечный день, в один из тех редких дней, когда свет не ярок, но светел особенными белыми лучами. Мы были около Него, я держал Его под руку. Его напряжение передавалось всем. Все больше устанавливалась связь между Его взглядом и тем местом горизонта, куда Он смотрел. Мы были накануне чуда. На самом последнем пороге…
И Он изнемог. Его человеческое воспротивилось и не вынесло возможности откровения. Он молил отклонить его. Мольбы таких состояний не могут не исполняться. Вернулось обычное сознание.
Прошло время, ничем не отмечаемое, кроме еще больших наших устремлений в Него. И вот однажды на дороге в лес, по которой только что прошла толпа, Он почувствовал опять тоску по тайном свидании с ней, которую Он сам отверг недавно. Всеми силами Он молил. Он требовал.
Мы ждали, уже ощущая трепет и замечая в природе то, что в обычное время проходит невидным. Я, как тогда, держал Его под руку. Я проникал в Его душу до последних глубин. И вот что в них было.
Он знал, что приближается.
И вдруг вспомнил прошлый миг и свое бессилие его принять.
И тогда с острой ясностью открылся единственный путь: человеческий язык называет его смертью.
Не колеблясь, он сказал свое «да» и, закинув блаженную голову, склонился на колени. Я первый заглянул в просветленное и бледное Его лицо и прочел в его страстном напряжении всю сладость первой встречи.
Кизи, обезумев от ревности, убежала в лес.
Ночь пришла старая, такая, каких давно не было. Стащили матрацы, платье и мягкое в такую же кучу, на то же место. Таща, злорадствовали. Никто не признавался. Никто не жалел. Но все знали.
Я измучил Кизи. На лице девочки кожа повисла, как у старухи. Фуя похоронила свое материнство. Филин исцарапал Дряни успевшую загореть шею и двуликую грудь. К полуночи синева залегла у него под глазами, и рот не закрывался. Он лежал между Дрянью и Фуей и хохотал:
Потом обе женщины стали спорить из за него. Тяжело дыша, потные, как две самки каменного века, склубились они на тихом всегда ложе нашем, и долго визг и хрип стоял в клубке. И смрадные, как наши души в этот час, слова.
А Филин оживил Кизи.
Но я отнял ее, снес в соседнюю комнату, положил на пол, поцеловал в последний раз, и лег на нее, и не встал, пока не посинела. Потом вернулся, потушил свечи, увидев впервые в жизни невыносимое…
Когда они распались, и тяжелый сон пришел на помощь мне, размягчая тела и угнетая души, я запер двери, плотнее закрыл окна, опять задернул занавески, и в темноте принес из кухни смерть в черно-красном облике головни.
И сел, и думал. И мелькало все недавнее мучительной, но крепкой цепью, а синий туманчик наползал, и стал уж храп лежавших тускнуть, и круги заходили у меня под глазами. «Так было в день сотворения мира», — подумал я. Филин вскочил, махнул руками и, прохрипев:
упал ничком на голых. Нога одной вздрогнула и вытянулась. Бред не то звуковой, не то световой овладевал всем.
Зачем Ты ушел?
Последним усилием слабевшего мозга приняв вдруг новое, неожиданное и радостное решение, я выскочил в окно и побежал через поле к лесу, дико, злобно, а в голове стучало молотками, и черный лес неведомой стеной неслышно подплывал все ближе, и темнота небес синим бархатом гладила всклокоченные волосы.