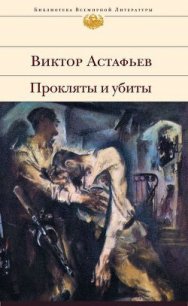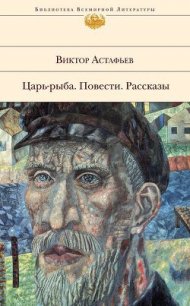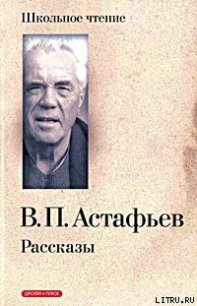Царь-рыба (с илл.) - Астафьев Виктор Петрович (читать книги онлайн без сокращений .TXT) 📗
Вывалив из корзины на приплесок еще живых, но уже вяло пошевеливающихся стерлядок, дежурный крепко зажимал голову крупного, пьяно бунтующего налима и через жабры вынимал крылато развернутую, медово-желтую печень, по-здешнему максу. Большой начальник, принимая рыбу, «не замечал» тряпично просевшие, сморщенные, только что вроде бы разрешившиеся родами, пузы пятка налимов – нарушение, конечно, без максы налим никакой цены не имеет, но поперек артели не пойдешь, артель – сила. Управившись с мелочью, дежурный цеплял нельму за крышку жабры, волок ее, сорящую по песку серебром чешуи, в воду и острым ножом тонко прочеркивал нежно-белый упругий живот рыбины.
Аким и все парнишки постарше сортировали рыбу, стараясь не наступить и, не дай Бог, плюнуть на невод – уловистость снасти испортишь, – и краешком глаза наблюдали, как обстоит дело с ухой, чего в нее попадет сегодня, и, переглядываясь меж собой, показывали большой палец, заметив, какую дородную нельмищу полосует дежурный. Отрезав из-под нежного подкрылка свежий, соком истекающий кус, дежурный артельщик иссекал его на полене в кубики, раздавал мальцам вместо сладости, и те охминачивали за обе щеки свежую рыбу так быстро и жадно, что на губы их выдавливался прозрачный жир.
Забулькало, заворковало в котле, аж в костер сплеснуло. Огонь приутих, зашипел и тут же воспрянул, треснул, приподнялся, достал выпуклое дно котла, уперся в него гибким всходом и раскрылся ярким цветком, в середке которого темнела маковица чугунного котла. Ребятишки, которые босые, совсем еще хилоногие, облепили огневище, и кто в него сучок, кто щепочку совал, стараясь посильным трудом заработать себе еду и даром греясь большим артельным огнем.
Всякий народ перебывал в Боганиде, но не было случая, чтоб кто-то погнал ребят от костра, укорил их дармоедством. Наоборот, даже самые лютые, озлобленные в другом месте, в другое время, нелюдимые мужики на боганидинском миру проникались благодушием, милостивым настроением, возвышающим их в собственных глазах. Конечно, артельщики маскировались и грубоватой шуткой, и незлобивым ворчанием, но ребятишки – зверята чуткие, их не обманешь, они понимали, что все это просто так, для куражу, что дяденьками овладело сердечное высветление; оно приходит к человеку, который делает добро и удовлетворяется сознанием – он еще способен его делать и не потерян, значит, для семьи, для дома, для той другой, утраченной жизни. Понимая некоторую стесненность ребят – как-никак нахлебники, артельный народ всячески старался занять малый люд делом.
– Луку! Хто за луком!
И ребятишки со всех ног бросались к лодкам, в носу одной из них находили беремя дикого луку, завернутого в плащ, – возле Боганиды лук выщипывали, выводили еще с весны, и рыбаки привозили его с дальних тоней.
– А хто же у нас тут главный по соли? – оценивающим взглядом обводил дежурный благоговейно замерших ребятишек. Каждый хотел бы быть главным по соли или хоть по перцу, но не смел высунуться наперед других связчиков, лишь ел дежурного взглядом, безгласно крича: «Я! Я! Я!» – Н-нет, товаришшы дорогие, мужики удалые! – разводил руками дежурный. – Соль, перец – дело тонкое, жэншыне только и подвластное! Куда-а нам против Касьянки? Она и в работе удала – с огня рвет, и посолит, как отвесит, чика в чику, на всякий скус… – Передав берестянку с солью ног под собой не чувствующей белобрысой девчушке, дежурный отстранялся от котла, как бы сняв с себя всякую ответственность, переложив тяжкий груз на другого, более сведущего в сложном поварском деле, человека, определив себе и «мужикам» работу грубую, менее почетную – вычерпывал с парнями воду из лодок, обирал шахтару, соскабливал и смывал с подтоварников рыбью чешую и слизь, прополаскивал фартуки, рукавицы, рыбацкую спецовку.
– Да не забредайте глубоко-то, не забредайте! Испростынете! Кто лечить будет? – строжился дежурный, а то и бригадир, остепеняя в раж вошедших парней. Да куда там? Чем больше им говорят, тем пуще они хлобыщутся в воде, напропалую лезут в нее – у берега-то мутно, чешуя, рыбьи потроха, возгри, сукровица сгустили воду и супесь на заплесках.
Получив ответственное поручение, Касьянка становилась до того важной, что покрикивала и распоряжалась у огня пуще, чем Киряга-деревяга в рыбоделе: чтоб огонь держали – давала указание, чтоб руку не подтолкнули и вообще не мешали, не путались бы под ногами. Самый уж разнестроевой карапуз – мальчишка по прозвищу Тугунок и тот был захвачен трудовым потоком – старательно резал лук острущим ножом на лопатке весла, выпустив от напряжения белую соплю на губу. Сестренка Тугунка, погодок Касьянке, припасла котелок, держала его наготове, чтоб, как наступит пора, растирать в нем максу с луком, не бегать, не искать посудину. Очень это важный период – заправка ухи: обваренную максу вынимали черпаком, кидали в котелок и перетирали вместе с луком. Желтую, парящую жижицу затем вытряхивали обратно в котел, и дивно сдобренная, без того валящая с ног сытным ароматом уха обмирала в котле, словно тронувшееся сдобное тесто, готовое в любой миг полезть через край от силы, его распирающей, и полной вызрелости.
К бурно закипевшему котлу, по которому гоняет лавровые листья и в середине кружит белопенную воронку, завихряя в ней горошинки перца, мелкие угольки, серые лохмоты отгара и комаров, дежурный прет в корзине вычищенную, вымытую, расчлененную рыбу. Из корзины торчит лунно отблескивающий, раздвоенный хвост огромной нельмы, трепещут и хрустят еще о прутья крыла стерлядок, буро светится нарядный таймененок. Попробовав черпаком еще пустое варево на соль и удовлетворенно подморгнув Касьянке, напряженно ожидавшей в сторонке приговора, дежурный с плеском вываливал в котел рыбу. Только что бушевавший, булькающий котел охватывала дрема, переставали кружиться по нему, плескаться в его гулкие, щербатые бока вспененные волны, обрезало пенистую воронку, видно делалось накипь, кольцом очертившую посудину изнутри, – как ни три, как ни мой старый чугунный котел, в порах его всегда останется скипевшийся жир.
Какое-то время смешанно, кучей покоится в котле рыба, чуть только пошевеливает ее из-под низу и нет-нет вышибет наверх блеску жира. Поначалу россыпью катаются кругляшки жира по просторам котла начищенными копейками, но варево со дна пошевеливает и тревожит все сильнее, все напряженней. Вот уж один-другой кусок плавкой нельмы с крылом или жировым плавником приподняло, перевернуло; уха начала мутнеть, облачком кружиться, наливаться горячей силой – блестки жира, в пятаки величиной, в рубли, расплавленным золотом сплошь уже покрыли варево, и в посудине даже что-то тонко позванивало, словно выплавленные капли золота падали на звонкое чугунное дно артельного котла. Первым наверх выбило широкий, крылатый хвост нельмы, трепыхнула плавником пелядка и тут же сваренно уронила его. Всплыл, выгнулся дугой таймененок с сонно распахнутым ртом и занырнул обратно; выбросило, закружило стерляжьи остроносые головы. И пошел рыбий хоровод! Куски рыбы, белые, красноватые, с прожелтью, с плавниками и без плавников метались по котлу, переворачивались, выпрыгивали пробками и оседали на дно. Лишь матово отливающий хвост нельмы стойко еще держался над котлом, но и он завядал, сворачивался.
Варево подбрасывало нагоревшим огнем, вертело, гоняло бурунами, и сам котел и крюк над ним содрогались, будто вскачь неслись, позвякивали железом, и бодрое клокотанье возбуждало, веселило и подгоняло артельный люд, занятый колотухой. Кипит работа на берегу! Лишь собаки лежат в стороне. Глянет кто на них – они хвостами повинно шевельнут, что, дескать, поделаешь, нам никакой работы покудова нету, а есть тоже хочется.
Сортная, несортная, белая, черная – разбрасывает Аким с парнишками рыбу по ящикам и носилкам, споро работает, аж вспотеет весь и, незаметно от людей, нет-нет да и кинет какой-либо собачонке прелую сорожину, чебака, щуренка, окунишку иль налима, разжульканного сапогом. Собака лапой прижмет подачку, покажет зубы налево и направо – не зарьтесь, мне дадено, и, стараясь негромко хрустеть, пожирает рыбу.