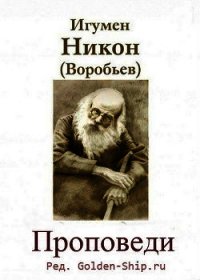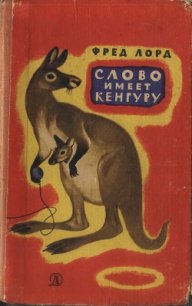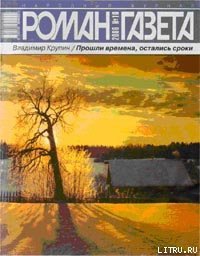Живая вода - Крупин Владимир Николаевич (читать лучшие читаемые книги .txt) 📗
– Без них, – подтвердил Кирпиков. – Зато, обрати внимание, какие недоразвитые. – Он взял умолкшего робота у невестки, поставил на подоконник. – Хоть теперь кругозора наберемся. Мать! Иди понянчись. – Он взял коробку и покачал ее. Кукла внутри запищала: „Мам-ма, мам-ма“. – Мать, слышь, тебя зовет. Нажуй мякиша в тряпочку.
Невестка поглядела на мужа.
– Конечно, – сказала она, – мать строгая – значит, мать плохая, дед добрый – дед хороший.
– Пап, – сказал Николай, – много у нее игрушек, все равно в сад таскала.
– В любимого дедушку, – уколола невестка. – Растащидомка, бессребреница.
– Пойду, – решил Кирпиков. – Мерина кормить да ехать.
– Прямо без вас, папаша, и земля не вертится.
– Точно, – подтвердил Кирпиков. – Пойду.
– С гостечком, Александр Иванович! – закричала Дуся. Она караулила Кирпикова у крыльца. – Пошабашили на сегодня?
– Здравствуйте, теть Дусь.
– Здравствуй, Коленька. Помочь тяте-маме приехал? Не забываешь стариков.
– Да надо.
– Как не надо, как не надо. Так, Александр Иванович, себе начнете копать? Или со встречи-то в первый день вроде неудобно гостей запрягать? А я думаю, дай ветвины обстригу, разъезжать Александру Ивановичу будет легче. И ветвин-то всего ничего, ссохлые.
– Сейчас раздернем.
Дуся, подавляя радость, шла рядом и спрашивала:
– Вот вы в городе живете, ближе к ученым, скажите, ведь это от космоса такая жара? От спутников?
С удовольствием ожидая завтрашнюю физическую нагрузку, сын оглядывал огород, поглядывал, к чему бы приложить руки и сегодня. Вопрос Дуси насмешил его.
– Мы теперь переживаем период общего понижения. Но бывают и аномалии, как, например, нынче. Жарко. Значит, потом холод.
– И долго этот период протянется?
– Лет сто. Геологическую секунду.
– Сто лет – секунда! – ахнула Дуся. – Мы и по секунде не проживем? Ой! – Она вскинулась, так как Кирпиков появился и уже наставлял плуг.
Мерин выскался за дни уборки и понуро ждал команды.
– Дай, пап, пройдусь, – попросил Николай.
– Попаши-ко, батюшко, попаши, – обрадовался Кирпиков.
Приятно было смотреть на сына. Он шел за плугом прямо, не сгибался, а это признак умелого пахаря. Не давил на ручки, не дергал вожжи, доверялся коню. Пласт выворачивался ровно, ни одной перерезанной картошки не забелело.
– Коля-а! – позвала невестка с крыльца.
Кирпиков подосадовал: только парень вошел во вкус, она уже тут. „Подмяла Кольку, – сердито подумал он, – загнала под каблук“.
– Ну, зар-раза! – гаркнул Кирпиков, сменяя сына.

Методично шагавший мерин справедливо обиделся. Вообще ломовая лошадь не сердится на возчика: тот тоже подневольный, но зачем зря-то кричать?
Дуся подскочила и шлепнула мерина по спине, показала Кирпикову готовность помочь.
„Посоветовать Кольке поучить жену? А не хуже ли обернется? Уйдет и дочь заберет. Если б оставила. Эх, это б был выход!“ Кирпиков даже вздохнул: мечтательная мысль, бывшая и прежде, снова мелькнула – уйди невестка от Николая, оставь Машу, тогда Маша, конечно, досталась бы старикам.
Мерин шагал быстро, давая понять хозяину, что и без крика можно найти язык, и они скоро закончили Дусину одворицу.
– Айда, пап, в баню, – позвал Николай. – Супруги нас бросили, в магазин пошли. А завтра уедем, не успеем.
– Мерина поставлю, и идем. Веник пополнее достань.
На чердаке на прежнем месте висели веники. Против прежнего они были малы, листья высохли до пепельной ломкости. Николай осторожно отвязал один, хотел слезать, но какое-то воспоминание остановило его.
Около этого окна он готовился к экзаменам в седьмом классе. Разный мальчишеский хлам: проволока, гвозди, шалнеры, всякие железки вызвали улыбку. Зачем-то все надо было, натаскивал. Мечтал что-то построить, да так и промечтал. Четырьмя днями промелькнуло детство: зимним – белым, осенним – золотым, весенним – дождливым и летним – зеленым.
„Так что же вспомнилось-то?“ – мучился он. А, вот что. Обида на отца. Он не дал учиться после семилетки. Как ни просился Николай дальше, отец заставил его пойти в колхоз. Десять классов Николай закончил уже в армии, а после службы – вечерний институт.
Сейчас Николай прощал отца. Волей-неволей поймешь его: легче заставить работать остальных людей, когда не жалеешь родных. „Бей своих, чтоб чужие боялись, – усмехнулся Николай. – Ну как было, так и было. Теперь не воротишь. А отец уж старик“.
Стоял еще день, в бане было свободно. Выбрали скамью возле окна. Оконные стекла, до половины замазанные белилами, еще не запотели, и виднелась лампочка на столбе. Она горела, но тускло.
Отец ошпарил веник. Вода в тазу потемнела, запахло как лесной прелью после дождя. Николай рывком отодрал разбухшую дверь в парилку. Охнул и, жмурясь, аккуратно пошагал вверх по ступенькам на полок. Там, трудноразличимый в пару, лежал человек.
– С успехом трудиться, – пошутил Николай и крякнул, чувствуя, как зябнет от жары, как истомно вживается тело в высокую температуру.
– Дверь-то че нараспашку? На тройке заезжаешь? А-а, – узнал лежащий Кирпикова. Это был Афоня. – Здорово, Сашка. Не выстужай, не выстужай да покрути колесо. Дай газу до отказу и скорости все сразу.
Зашипело – Кирпиков открывал паропровод. С хриплым свистом пошел в щели полка серый пар. Николай заплясал и свирепо стал бить себя. На коже проступили красные полосы.
– На-ко моим, – сказал Николаю Афоня.
– Давай-ка, давай, батюшко, – весело сказал отец, приседая и прижимая к голове горящие уши. – Ну па-ар, самый жаровой пар.
Николай посмотрел на веник Афони и засмеялся:
– Силен, бродяга!
– А твоим только комаров отгонять.
Обычно парятся березовым веником. Кожа от него становится упругой и скрипит под пальцами. Но какой же был у Афони, если он так презрительно отозвался о березовом?
Дубовый? Есть любители и на дубовый. Хлестаться дубовым чувствительно, присадисто, но зато уж и жить после него хочется. Но и не дубовый был у Афони.
Может быть, пихтовый? Этот сортом повыше, встречается в банях редко. Пихтовый пахнет смолой, он тяжел, сбивает с ног. От него глохнешь и хочется убежать невымытым. Нет, и не пихтовый был у Афони.
Какой же тогда? Знатный был парильщик Афоня, явился к первому пару, лежал-подремывал в этом раскаленном воздухе, в котором колыхнуться без ожога трудно, и веник у него был соответственный. Можжевеловый был веник. Это зеленый пучок колючей проволоки, это куст азиатских роз без самих роз, с одними шипами. Но всякое сравнение вылетит из головы, когда тебя стегают таким веником. Самому париться можжевельником невозможно – жалко молодой цветущей жизни. Новобранца-парильщика двое держат, один парит, или, вернее, порет. Бедняге кажется, что кожа на нем рвется в лохмотья, ребра исцарапаны, что конец света для него наступил намного раньше, чем назначено судьбой, а всего-то навсего исполняется выдуманный закон – добро насильственно. Выйдет парильщик с померкшим светом в очах, добредет до крана, сунется под холодную струю, сядет на пол, впадет в небытие, потом потихоньку оклемается, и потихоньку забрезжит ему новый свет, свет того солнца, когда был он молодым, когда будущее было безбрежно, безгрешно и стремительно летело к нему, а не улетало. И вот он окончательно очнулся, и вот он видит…
Не зря, наверное, можжевельником на севере выпаривали всю заразу, и из южного брата его, кипариса, резали кресты – и нательные и могильные…
– Дай-кося, – сказал Кирпиков. Взял, хлестнул. – Нет, Афоня, вышел я из возраста. Ну, Николай! Воскресни!
– Нет, не осилю, – ответил сын.
Допаривались внизу. Афоня все подбавлял пару и все истязал себя, рассуждая, что народ нынче пошел хуже прошлогоднего, вот раньше были парильщики, теперь что! теперь – тьфу! Да и сам он, Афоня, со всеми своими соплями до прежних не достигнет.