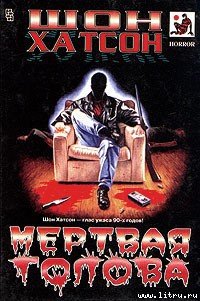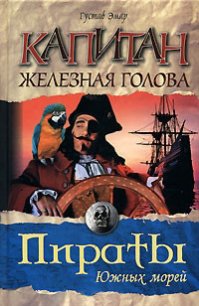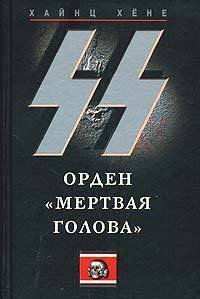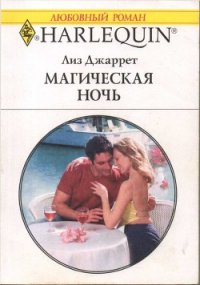Мертвая голова (сборник) - Дюма Александр (читать лучшие читаемые книги TXT) 📗
Не странное ли это было время, когда утром можно было видеть осужденных, в четыре часа дня – казненных, а вечером – танцующих, которые сами рисковали головой.
Гофман понял, что, если кто-нибудь не потрудится объяснить ему, что играют на сцене, он сам никогда не разберется и, может быть, сойдет с ума, стоя перед афишей. Из этих соображений юноша подошел к толстому господину, следовавшему за толпой вместе со своей женой, – с незапамятных времен толстые мужчины любят ходить с женами туда, куда идут все, – и обратился к нему:
– Сударь, позвольте спросить, что играют сегодня вечером?
– Но разве вы не видите, сударь, что написано на афише? – ответил толстый господин. – Играют «Суд Париса».
– «Суд Париса»… – повторил Гофман. – Ах, да! «Суд Париса», знаю.
Толстый господин пристально посмотрел на юношу и пожал плечами с видом глубокого презрения к молодому человеку, который в эти достойные мифологии времена мог, пусть и на мгновение, забыть, что такое суд Париса.
– Не угодно ли вам купить содержание балета? – спросил, подходя к Гофману, продавец программ.
– Да, пожалуй, не откажусь!
Это для нашего героя стало новым и веским доказательством того, что он действительно отправляется в театр, а он в этом очень нуждался.
Юноша открыл книжечку и пробежал ее взглядом. Она была аккуратно напечатана на хорошей белой бумаге и дополнена предисловием автора.
«Чудное создание – человек, – подумал Гофман, рассеянно глядя на строки еще не прочитанного им предисловия. – Он является частью общества, но идет по жизни равнодушным эгоистом, дорогой своих собственных выгод и честолюбивых планов. Взять, к примеру, господина Гарделя-младшего, поставившего этот балет 5 марта 1793 года, то есть шесть недель спустя после кончины короля, после одного из самых значительных событий в целом свете. В день представления этого балета господин Гардель испытал среди обычных ощущений новое для себя чувство: его сердце лихорадочно билось при громе рукоплесканий. Если бы в эту минуту с ним кто-нибудь заговорил о событии, волновавшем еще всю вселенную, и назвал бы ему имя короля Людовика XVI, он вскричал бы: «Людовик XVI? О ком вы?» Потом, будто со дня представления балета публике свет только и был занят этим событием, он издал предисловие, призванное объяснить его пантомиму. Что ж, прочтем его и, утаив от себя количество копий этого издания, посмотрим, найдутся ли там следы событий, под влиянием которых оно было написано».
Гофман облокотился на ограду театра и прочел следующее: «Я всегда замечал, что в балетах хорошая постановка декораций и разнообразные дивертисменты [9] больше всего привлекают зрителя и заслуживают аплодисментов».
«Стоит признать, что этот человек сделал весьма любопытное замечание, – подумал Гофман и не смог удержаться от улыбки при столь простодушном начале. – Не может быть! Он заметил, что балеты привлекают хорошей постановкой декораций и разнообразными дивертисментами. Как это высказывание понравилось бы господам Меюлю, Плейелю и Гайдну, написавшим музыку для «Суда Париса». Что ж, посмотрим, о чем говорится дальше».
«Руководствуясь этим соображением, я искал то, что позволило бы по-настоящему блеснуть знаменитым талантам, входящим в состав парижской оперной труппы, а мне – дать волю собственным фантазиям. История поэзии есть неистощимое сокровище, в котором может черпать вдохновение постановщик балетов; оно не без шипов, но надо уметь их отделить, чтобы сорвать розу».
– Ах! Вот так фраза! Пожалуй, она заслуживает, чтобы ее поставили в золотую раму! – воскликнул Гофман. – Только во Франции пишут подобные вещи!
И он стал перелистывать брошюру, собираясь продолжить любопытное чтение, начинавшее его развлекать. Но мысли вновь невольно вернулись к недавним событиям. Буквы начали расплываться в глазах мечтателя, он опустил руку, державшую «Суд Париса», и, устремив взгляд в землю, прошептал:
– Бедная женщина!
Тень госпожи Дюбарри еще раз мелькнула среди воспоминаний молодого человека. Тогда он встряхнул головой, чтобы усилием воли прогнать эти мрачные мысли, и, положив в карман книжечку господина Гарделя-младшего, взял билет и вошел в театр.
Зал был полон и сиял блеском драгоценных камней, шелка, обнаженных плеч и цветов. Отовсюду раздавался шепот надушенных женщин, везде звучали их легкомысленные речи, подобные жужжанию роя пчел. Они были полны слов, оставляющих в уме лишь пыль, похожую на ту, которая остается на пальцах детей от крыльев пойманных ими бабочек.
Гофман занял свое место и, покоренный царственной атмосферой зала, почти уже убедился, что он здесь с самого утра, а мрачное воспоминание, неотвязно преследовавшее его, есть лишь страшный сон, но никак не действительность.
Юноша воззвал к своему сердцу и воображению, мыслями и чувствами обратился к образу молодой девушки, оставленной им, и медальону, который висел у него на шее и внимал биениям его сердца. Гофман окинул взглядом всех окружавших его женщин с их нежными плечами, белокурыми и черными волосами, гибкими пальцами, играющими кончиком веера или кокетливо поправляющими цветы в своих прическах, и улыбнулся самому себе, произнося имя Антонии. Казалось, одного этого имени было достаточно, чтобы уничтожить всякое сравнение между той, что его носила, и всеми остальными женщинами и чтобы перенести его в край мечтаний в тысячу раз более прелестных, чем эта действительность, как бы хороша она ни была. Потом, будто этого было недостаточно, будто опасаясь того, что портрет, живущий в его воображении, может перестать быть идеалом, юноша запустил руку за жилет, нащупал под ним медальон и схватил его, подобно робкой девчушке, поймавшей птицу в гнезде. Уверившись в том, что за ним никто не наблюдает и ничей нескромный взгляд не осквернит нежного образа, который он сжимал в руке, Гофман медленно поднес портрет девушки к глазам. Полюбовавшись им с минуту, он нежно прижал его к губам, а затем снова спрятал медальон у сердца, не дав никому угадать причину восторга, вдруг наполнившего его душу лишь оттого, что он просто положил руку за жилет.
В следующую минуту подали сигнал, и первые ноты увертюры весело зазвучали в оркестре, будто резвые птички запели в роще. Гофман сел ровно, стараясь уподобиться другим слушателям. Он всеми силами пытался заставить себя внимать этой музыке.
Пять минут спустя Теодор уже не слушал и не хотел слушать: такая музыка не могла привлечь внимания юноши, тем более что она звучала для него сразу с двух сторон. Его сосед, вероятно, обычный посетитель оперы и почитатель Гайдна, Плейеля и Меюля, тихонько подпевал фальцетом различным ариям этих господ. Певец также аккомпанировал себе пальцами, длинные и гладкие ногти на которых с неподражаемым проворством отбивали такт по табакерке, которую он держал в левой руке.
Гофман с любопытством, характерным для всех наблюдателей, стал разглядывать этого господина, подыгрывавшего оркестру. Поистине, человек этот стоил того, чтобы на него обратили особое внимание.
Представьте себе невысокого мужчину в черном фраке, при галстуке, в брюках и в жилете, в белой сорочке, но такой белой, что ее снежный блеск ослеплял. Руки этого господина, наполовину закрытые манжетами, были тонкими и почти прозрачными, как воск, и вырисовывались на черном фоне брюк так, будто светились изнутри. Теперь обратимся к лицу незнакомца, на которое Гофман также взирал с любопытством, смешанным с удивлением: оно было овальной формы, со лбом, гладким, как слоновая кость. На его голове, подобно кустарникам на равнине, редели рыжие волосы. Теперь мысленно уберите брови и под местом, предназначавшимся для них, сделайте две дырочки для холодных, как стекло, глаз. Взгляд их почти всегда оставался неподвижным и оттого казался бездушным. Напрасно вы будете искать в них светлую точку, которую Бог поместил в глаза, как искру жизненного пламени. Глаза этого господина были голубыми, как небо, но они не выражали ни добродушия, ни жестокости. Казалось, они смотрели, но не видели. У него был тонкий длинный нос и маленький полуоткрытый рот с зубами, но не белыми, а того же воскового оттенка, что и кожа. Острый подбородок был тщательно выбрит, скулы сильно выдавались, а на щеках красовались впадины величиной с грецкий орех – вот, пожалуй, и все примечательные черты зрителя, сидевшего по соседству с Гофманом.