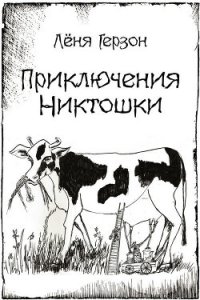Старый букварь - Шаповалов Владислав Мефодиевич (книги бесплатно полные версии .txt) 📗
Старик берёт с плиты эмалированное ведро, идёт на улицу сцедить воду. Сцедит кипяток прямо в снег, вернётся назад. Поставит картошку ещё раз на огонь, чтобы она, случаем, не застекленела. И, подсушив её как следует, со всеми почестями переносит ведро на стол, свободный к тому времени от ученических тетрадей и чернил. Теперь уж всему голова он, дед Матвей, Надежда Фёдоровна только сидит да слушает скромненько рядом с детьми, смотрит, как он колдует.
Ребята тоже слюнки глотают. Ерзают на скамейке. Следят за каждым его движением. А он нарочито медлит. Для важности, конечно. Чинно достаёт из кухонного стола краюху чёрного хлеба, из деревянной солонки берёт непослушными пальцами щепотку соли. Рассыпает её четырьмя кучками на столе — две посредине и две по краям. Для каждого класса в отдельности.
Лишь после этого снимает с ведра эмалированную крышку. Столб горячего пара ударяет в потолок.
Вручит каждому по картофелине — чистите, мол, — а сам в чулан пойдёт. Внесёт ломоть мороженого сала. Пересчитает всех корявым пальцем — знает же, сколько их, а обязательно пересчитает. Вроде переклички в классе. Достанет из ножен плоский кинжал.
Вынул кинжал из ножен — детишки обмирают.
Тот кинжал хранился у него под полою, у кинжала была массивная ручка с пластмассовыми щёчками коричневого цвета. На щёчках удобные захваты для пальцев. На плоской воронёной стали гладенький жёлобок во всю длину. А на рукоятке — орёл с растопыренными крыльями, точно такой, как на бумаге с водяными знаками. Держит щит в цепких когтях. На том щите — крючковатая свастика, точно такая, как на немецкой бумаге. И таким иноземным холодком потянет от воронёной стали, от свастики с орлом, что мурашки по коже.
Да в руках деда Матвея кинжал сразу почему-то стал нестрашным, превратился в обыкновенный кухонный нож больших размеров, которым хлеб режут или картошку чистят.
Нарезал брусочками мёрзлого сала, каждому одинаково — и Надежде Фёдоровне тоже, и себя не забыл, — вставил кинжал в чехол, щёлкнув ручкой в упоре. Спрятал под полу. И снова, без кинжала, в избе деда Матвея становится, как было, приютно и весело. Будто чёрная туча отошла и с неба проглянуло солнышко.
— Спеши, не торопясь, — поучает «студентов» дед Матвей. Ну точно, как своего Короля.
Ребята едят, дуют на картошку, только мысля их всё тот же кинжал заступил. Нет его, а всё перед глазами видится. И где только он, дед Матвей, раздобыл такой?
Да дед Матвей не спешит рассказывать. Обронит слово-два, между прочим, о том, о чём его не просят, и опять делом занимается. То сало отнесёт в чулан, то дров подкинет в печку. Думает о чём-то. Последнее время, как приехала учительница, дед Матвей изменился. Задумываться начал. Вот кабы ему в голову заглянуть да вызнать, о чём он всё думает?
— Это? — презрительно глянет себе на полу, под которой хранится страшная штуковина. И добавит безразлично: — Да так, и рассказывать не об чем: снимали одного…
Чистит картофелину крупными, плоскими от старости, от работы ногтями; хочется ему помочь, чтобы скорее управился да рассказывал. А он медлит. Радуется теплу, что переходит в его руки от клубней картошки. Старую душу согревают.
— Было раз… — произнёс и сделал паузу.
Школьники замерли. Картошка на столе нетронутой осталась. Парок от неё исходит. Стынет-остывает. А что за вкус от холодной картошки? Ну и пусть стынет!
— Ползём это мы к ихней землянке. Дело ночью было. Смотрим — из трубы искры летят. Топят, стало быть, сугреваются, бедняги. А зима забойная была, снегу навалило внепроходь. Как сейчас. И часовой кулём за сугробом стоит, лютый такой. Гляжу на него — глаза отдал…
Здесь обязательно дед Матвей передышку сделает. На самом интересном месте, привычка у него такая. Обведёт всех внимательным взглядом слушают ли его? И знает же, что ребятишки еле дышат, а хочет убедиться ещё раз.
— Значит, стоит это он, часовой-то, у входа в землянку, бедняге, видать, холодно в здешних местах, не привык, ёжится в тулупе. Винтовка под рукавом, под носом — сосулька…
Дед Матвей, конечно, заливает. «Заливать» — это врать ладно, как он сам любит выражаться. Кто же увидит сосульку ночью? Да ещё под носом! Но дети, затаив дыхание, слушают внимательно. Не в сосульке ведь дело.
— Ползу я, а мослы мои грякають. Вот-вот выдадут.
Худ дед Матвей, каждый знает. Но как они, «мослы», то есть кости, могут так «грякать», то есть греметь, чтобы часовой услышал? Однако ребята и это пропускают мимо ушей — что там дальше было, дальше-то что?
— Я ему: «Ганде гох!» Руки вверх! — значит.
Сказал и на учительницу глянул: как она? Ведь с тех пор как она его срезала, дед Матвей опасался выражаться по-иностранному. А теперь осмелился. Или научился? Глянул на неё с хитрецой, и она впервые не поправила его. Значит, выучился.
— «Ганде гох!» — крикнул. А сам мешок сзади ему на голову — раз! Винтовку — коленом. Пояс у шинели, с этой вот штуковиной, — щёлк. И всё тут…
— Что всё?.. — опешили детишки.
Ведь дальше самое интересное! А он тронул полу, где покоится кинжал, пригладил ладонью бороду.
— Тут, видать, шумнули мы лишку: в землянке как захлебочуть. Да как застугонять каблучищами наверх — прямо на нас! Как они с криком нам в животы головами! И в это самое время меня в зубы — тык!
Тихо, еле слышно закипает на плите чайник. Тишина такая установилась, что слышно, как там, на донышке, маленькие пузырьки отрываются! Тонкой струйкой тянутся вверх. Попищат-попищат и перестанут. Потом снова, уже сильнее. Не одна и не две струйки ползут, освобождаясь, и чайник начинает сердито гудеть, напоминая о себе. Но ребята ничего не слышат.
— У меня зуб вон, кровью сплёвываю. Это я потом понял, что кровью, а так не больно. Сгоряча не больно.
На плите закипел, подняв крышку, чайник. По красному чугуну побежали, ширя и подскакивая, серые шарики воды. Густой пар ударил в потолок белыми клубами.
— Заговорился я тут с вами! — встал из-за стола дед Матвей, схватил с плиты чайник. — И как это мы чай забыли заварить?!
Достал в закуте целебную — от девяноста девяти болезней — траву зверобой с коричневыми головками цветочков, истолок в деревянной ступке несколько сухих бусинок шиповника. Поколдовал над заваркой, полез в шкаф за чашками. Расставил чашки на столе, а ребята всё ему в рот заглядывают. Какой там чай!
— Что уставились?
— Деда, а деда, а отчего у тебя все зубы целые? — ехидно спросил Павлушка Маленкин.
Дед Матвей улыбнулся себе в бороду. Глянул на пострела прищуренными глазами, но ничего не сказал. Чай молча разливает по чашкам, добавляет в каждую коричневого зелья заварки.
— Что дальше было, дедушка?
— Дальше что? — отнёс чайник на плиту. Ясное дело. Тут нетрудно догадаться, что было дальше.

Всё же «студентам» не всё ясно. И догадаться о том, что было дальше, они никак не могут. Наседают на старого опять.
— Дальше что? — переспросил ещё раз дед и, между прочим, объяснил: — Думал, дыра впереди останется. А оно ничего: соседние зубы сошлись клышками друг дружке навстречу и снова завроде в один ряд встали…
Улыбается, довольный, что вывернулся. Показывает белые зубы. Восьмой десяток разменял старик, а зубы все до единого целые!
— Деда, — зыркнул на него лукаво Павлушка, — а когда они успели сойтись, зубы-то?..
— Дык это ж когда было! Не в эту, а ещё в ту, первую ерманскую войну было!
Опять не всё ясно: как же тогда орёл с растопыренными крыльями на кинжале? И щит со свастикой в цепких когтях?..
Заливал, конечно, дед Матвей, выпутывался. Где правду говорил, а где нет — нетрудно догадаться. Время, видно, такое ещё не приспело, чтобы всю правду можно было выкладывать. Вот ему и приходится её, правду, кое-где выдумкой уснащать. Для «конспирации», как сам он говорит, дед Матвей. Для сохранения тайны, иными словами.