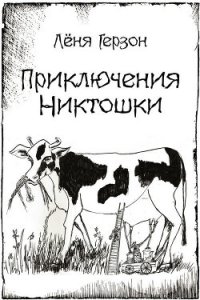Старый букварь - Шаповалов Владислав Мефодиевич (книги бесплатно полные версии .txt) 📗
Федя рисует солнце. Солнце у него чистое. Без помарочки. Любит он рисовать солнце. Нарисует — подумает, глянет на солнце. И вдруг слёзы на глаза. Возьмёт он чёрный карандаш, тени наложит. Прямо на солнце! Будто кто за руку схватит — зачем чёрным? Солнце ведь! Да ту же руку будто кто подталкивает ему. И тени, конечно, чёрным по красному, не он кладёт.
Ярким пламенем гудит печь. Тёплый дух от нее расходится по избе. Котёнок выгревается на лежанке. Жмурится на мир. Часы тикают на стене, отмеривая время. Детвора рисует.
Гнётся детвора над бумагой, зёрнышками от цветных карандашей рисует, которые Федюша еще до войны собирал. По одному собирал в коробочку из-под пудры. Зёрнышки трудно держать в руках, пальцы немеют, но рисовать хочется. Очень хочется рисовать детям.

Временами кто-то дёрнет дверь. Дети оглянутся, поймут, что это ветер — обыкновенный ветер, и снова принимаются за своё дело. Рисуют, фантазируют. Школу новую рисуют, праздничную ёлку в цветных фонариках.
Гудит дедова печь, тепло от неё расходится. Хорошо детям, укромно. Вдруг в тот отрадный деловой гул другой ворвался, зловещий. Гудит небо, сотрясая землю, стёкла в окнах дребезжат. Белый пушок инея осыпался на подоконник.
Надежда Фёдоровна, чуть побледнев, посмотрела на окно, стиснула крепко кулачки, сжала губы. Ребята подняли головы — что это? Даже котёнок навострил уши. Слушает, как гудит небо.
Но вот грохот, побесновавшись, стал удаляться и вскоре совсем затих где-то далеко за лесом. Учительница облегчённо вздохнула, обвела глазами класс и хотела уже продолжать урок, как вдруг увидела пустое место. Все ученики сидели, как прежде, над своими листками с зёрнышками в руках. А Танюши нет. Только что была и вдруг не стало. Листок с розовым рисунком кирпичного города лежит на парте, красное зёрнышко карандаша лежит, а её нет.
— Что ты, Танюша? — нагнулась учительница.
Откуда-то снизу, будто из-под земли, послышался плач, тоненький, жалобный, безутешный плач.
— Ах ты, детка моя! — учительница еле вытащила её из-под парты.
А Танюша ещё больше съёжилась. Руками закрыла лицо, прижалась вся к учительнице, задыхаясь от слёз.
Никто, конечно, в Беловодах не знал, что такое бомбёжка, потому не могли понять Танюшу. Самолёты пролетали и раньше, до войны, над лесом, мальчишки выбегали на улицу, смотрели, щурясь в синее небо и с завистью провожали глазами лёгкие стрекозы, сверкающие на солнце металлическим блеском. Так что ничего особенного в том гуле беловодовцы не почувствовали, а Танюша на себе испытала, что такое тяжеловесные бомбовозы. Девочку нашли в развалинах дома, перепуганную насмерть: забилась под стол — чудом осталась жива, — еле вытащили. Вот она и решила, что смерть пришла снова.
Немецкие бомбардировщики пролетели, а Танюша с рук Надежды Фёдоровны не сходит, прижалась в страхе. Надежда Фёдоровна так и довела урок до конца.
Ежедневно, как только дети приходили в школу, Надежда Фёдоровна выстраивала их в один ряд. Начиналась утренняя гимнастика. Учительница подавала команды, как было раньше, до войны, по радио, только без музыки, без сопровождения, ученики выполняли упражнения. Старый домик деда Матвея наполнялся топотом, смехом, беготнёй. Как бывало когда-то в школе, в спортивном зале.
После зарядки, чуть возбуждённые, садились за парты. Да сразу успокаивались и принимались за дело.
— Шу-ра, — читает усердно Федя.
— Му-ра, — вторит ему Серёжка Лапин.
Тепло, чисто, как никогда тихо в дедовом доме.
Пчелиный гул стоит в светлице от ребячьего усердия — учатся.
Однажды после обеда, когда школьники собрались домой: подмели пол, вытерли доску, — заглянул к ним дед Матвей. Последнее время он всё реже стал бывать в Беловодах: видно, всё дальше пролегали теперь его секретные тропы. И когда появлялся в посёлке, праздник привозил с собою не только малышам.
Заходит в дом завьюженный, огромная, в пояс, борода инеем посеребрена. Брови двумя белыми тучками шевелятся над влажными от ветра глазами. Бураковые скулы с мороза горят — ну точно как у новогоднего Деда Мороза! Фукает на красные кулаки, притопывает валенками. Ребят к себе не подпускает, пока не обогреется, чтобы, случаем, никого не заморозить. И как явится он, дед Матвей, спокойнее становится на душе.
— Ну, как там? — порывается к нему Надежда Фёдоровна.
Дети догадываются, о чём спрашивает учительница, ждут, что скажет старик. Но, как всегда, дед Матвей отвечает не то, о чём его просят:
— Поди, градусов двадцать пять на Цельсию нацеплялось…
Про мороз и без него все хорошо знают, эка невидаль, нашёл чем удивить; от него, старого, другого ждут. Павлушка Маленкин сел напротив, в глаза ему заглядывает.
Месяц назад бежал из плена его отец, Влас Маленкин. Весь изорванный, в лохмотьях, в жалких опорках — считай, босиком по снегу пришёл, — зарос так, что не узнать. Павлушка вправду не сразу узнал его: одни только глаза отцовы.
Отец посидел дома неделю и исчез бесследно неведомо куда. И, что обиднее всего, ему, Павлушке, не сказали! Дитём посчитали, ведь не иначе, отец ушёл туда, где дед Матвей пропадает. Павлушка подсел ближе. Очень уж хотелось ему знать про отца — жив ли, здоров, не поранен ли?

Однако от деда Матвея слова нужного не вытащишь. Отошёл от мороза, расстегнул тулуп, достаёт из-за пазухи свёрток. Лекарство привёз.
— Да не больна я! — не выдержала Надежда Фёдоровна.
— Не больна? — поднял он брови. — Ну, держи про запас, авось пригодится.
Положил лекарства в шкаф, потом достаёт опять же из-за пазухи цветные карандаши в коробочке. А картинка на коробочке! Тихий вечер опускается на землю, голубой снег звёздочками в сугробах блестит, золотые серпики луны рассыпаны по синему льду реки. Немецкие детишки на коньках катаются. Друг за дружкой. Шапочки у них островерхие, как крыши на домиках по ту сторону озера. На шапочках шарики.
Коробочка долго ходила по ребячьим рукам, потом взяла её Надежда Фёдоровна, посмотрела на картинку, тихо вздохнула:
— Дети везде дети. Всех их жалко. И наших, и тех…
Дети вдруг подумали — впервые в жизни! — что и у тех, кто пришёл сюда, тоже есть свои дети и что дети такие же, как они сами.
— Ну, как там? — повернулась к старику, отложив коробочку, Надежда Фёдоровна.
Всем интересно знать, что делается на белом свете, за Беловодами, за лесом, на всём белом свете. Присмирели, оставив в покое коробочку с немецкими карандашами, и дети.
Дед Матвей другую полу тулупа отвернул, достал из кармана карту, сложенную вчетверо. Для учёбы принёс карту "заведующий учебной частью", чтобы по ней учились дети. Знали её, карту. Запомнили, на всю жизнь запомнили и детям своим рассказали.
Карта оказалась не простая, то есть это была обыкновенная, как обычно бывают, карта, и необыкновенная карта. Немецкая, карта немецкая, а земля — наша! Родная! Реки по ней текут — и Днепр, и Волга, города кружочками, как положено, расставлены: одни помельче, другие покрупнее, только надписи все чужие! И оттого сразу не узнать, что она наша. Не узнать её прежде всего потому, что какие-то краски на ней лежат не те, потому, что часть территории, до самого большого кружка, где на наших картах звёздочка, коричневым цветом заштрихована… Заштриховано на той карте всё подряд. Даже Беловодовские болота, где никто из чужих не ступал, заштрихованы! В Беловодах флаг висел на конторе в Октябрьские праздники, а они заштриховали! Да что Беловоды — Карнауховский бор, где находятся партизанские землянки, тоже весь начисто заштрихован. Это же неправда!
Но ещё больше поразило всех другое: в тот самый большой кружочек, что на наших картах обозначается звёздочкой, — в самое сердце — две чёрные стрелы изогнулись-изловчились с севера и с юга. Клещами берут.