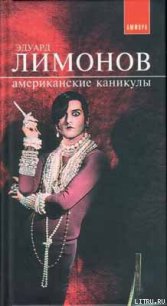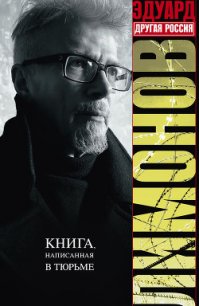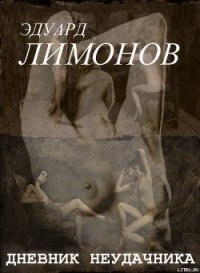В плену у мертвецов - Лимонов Эдуард Вениаминович (читать книги без регистрации .TXT) 📗
«Твой адвокат сказал, ты заболел! На больного не похож...»
«Пару дней чувствовал головокружение. В медчасти дали таблетку, забыл думать...Это от тюрьмы. Воздуха мало. Я тут работаю вовсю. Мне дают возможность писать, – сказал я. – Настольную лампу предоставили, во как!»
«Только не вздумай писать опять про мои гениталии», – изрекла она высокомерно.
Два прапорщика сидели в метре от нас за стеклом, как два тощих кура на насесте, задницами на рёбрах столов. При слове «гениталии» она вздрогнули. стекло никаких звуков не задерживало.
Она уныло лжёт. На самом деле любая женщина, и она тоже чувствует гордость и удовлетворённое тщеславие от того, что бывший возлюбленный выразил в книге свою любовь-ненависть. Я хотел было сказать ей, что ни она, ни её гениталии уже давно не привлекательны для меня, что строки в книге «Анатомия Героя» были написаны шесть лет тому назад, по свежим следам нашей разлуки. Книга лишь вышла позже. Что я уже был в восторге от гениталий нескольких юных дев после этого, но я не сказал. Я стал её расспрашивать о наших общих знакомых, которые меня не интересовали на самом деле. Впрочем, сообщение о том, что младенец женского пола, которого я называл в 1983-84 годах «Фалафель» – младшая дочь художника Вильяма Бруя вымахала в красивую девку и имеет тучу поклонников, вызвало у меня желание выйти из тюрьмы и отъебать этого Фалафеля со всеми потрохами, отомстив её папочке. У меня с ним старые счёты, с этим сводником. Так и сделаю, если не забуду. Ей это понравится. Юные стервы любят седых негодяев.
Когда ты лицезреешь в тюрьме через стекло свою третью жену – самое время думать о Вечности. Вот я и думал. Я думал что женщины – ужасающе эфемерные создания. Что они пристойно выглядят в лучшем случае на протяжении лет пятнадцати, ну двадцати. Что к 35 годам они превращаются в гиппопотамов, в мулов, в утюги и буфеты, в разные домашние предметы. Все очаровательные сиськи-письки, ножки-ручки съеживаются, скукоживаются или гигантски растягиваются от сдобных булочек, от совокуплений, абортов и родов растягиваются некогда трогательно узкие отверстия в их теле, ум их принимает циничный оттенок. А в мадонны с младенцем, чтобы потом стать пристойной старушкой-матерью сына-уголовника, они не идут. В народных балладах о каком-нибудь уставшем от подвигов добром молодце можно прочесть: «А подать ему зелена вина да бабёнку нерожалую» или «А за труд свой попросил Илья бочонок зелена вина да бабёнку нерожалую». Из чего можно вывести, что нерожалые бабёнки были всегда в большой цене. Вкус у русского народа и у молодцев был правильный. Бабёнка нерожалая подразумевает наличие узких входов в бабёнку, нерастянутые сиськи-письки и многое другое из набора удовольствий. Бабёнка, правда, может оказаться хоть и нерожалой de facto, но de facto же, от бесчисленных абортов она может иметь не тело, но разваливающуюся котлету. Такие мысли сверлили мой мозг в то время, как я разглядывал свою жену. Грешным делом по пути сюда, в комнату свиданий под номером "2", я даже попытался прикинуть, а вот если я попаду на зону, то бывшая жена может приезжать на большие свиданки, и я трое суток смогу ебать законную жену в гостинице ГУИНа. Теперь этот вариант, не успев созреть, гнилым плодом свалился с дерева моего воображения.
... Когда она начала сдавать? Есть точный ответ. Девять лет тому назад. После того как 30 марта 1992 года в Париже, на rue Montagne Saint-Genevieve, иначе говоря на улице горы святой Женевьевы в ресторане «Балалайка» (она там пела) ей рано утром нанесли шесть ударов отвёрткой в лицо. Один удар – вот виден шрам на лбу. Другой, в висок (рана была сантиметров пять глубиной, я видел), её чуть было не прикончил. Ещё один – пробил нижнюю губу и пришёлся в полость рта. Ещё один в щёку под скулой – оказался самым пагубным для её красоты. Он частично парализовал, поджал ей мышцы этой половины лица. Улица Святой Женевьевы взбирается круто в гору чуть ли не от самой реки Сены, чтобы на самой горе влиться в площадь, где стоит казематом жёлтый Пантеон. А в Пантеоне лежат герои Франции. Я бродил в тех местах когда-то влюблённым в певицу Наташу, мою непутёвую жену, а теперь передо мной чужая искарёженая жизнью женщина. В июле 1996 года я уже имел неприятный, шокирующий опыт: пришёл в галерею в театре Маяковского на выставку моей второй жены Елены. Я увидел жирную высокую, опухшую щекастую пожилую женщину, безвкусно одетую. Трусы, какой-то пластиковый халат поверх, соломенная шляпа, из-под шляпы – кудельки. Я явился с юной Лизкой, тонкой как шнурок. Нас там обильно фотографировали и впоследствии я увидел себя и Елену рядом, в некоем, забытом мною ныне иллюстрированном журнале. Мы выглядели как мать и сын! Жестокий, как камень, я беззастенчиво написал о жирной Елене в «Анатомии Героя». Поверг кумир, который сам же и создал своей книгой «Это я, Эдичка». Это как если бы Александр Блок взял и разрушил свою Прекрасную Даму. Растоптал бы.
Почему я так суров с ними? Потому что они профессиональные женщины. А профессиональная женщина должна быть вечной. Красивым трупиком до 30 лет. А жить и выглядеть как неряшливая хамка профессиональная женщина не имеет права... Мои Пенелопы. Елена живёт в Риме. Ей 51 год. Когда в 1971 году в газовом платье, кончающемся, где начинались трусики, приходила ко мне на великолепных ножках кукла, девочка «фифа» с пуделем. Создание неземное, узенькое, едва весящее свои 50 килограммов при росте 176 сантиметров, думал ли я, что…
«Хуй в пальто», – говорят в тюрьме, «где ночи полные огня». Думал ли я, что через 30 лет она будет жить в Риме: Италия. Носить титул контессы де Карли, пить с утра мартини, начинать утро с головной боли. У неё наверняка несвежее вонючее дыханье, и по утрам она ходит в халате. Её наверняка ненавидит её дочь от графа Джан Франко рыжая Анастази, сейчас этой красивой Лолитке 12 лет…
Я хотел, чтоб она была мне верна как офицер своему другу офицеру. Такая у меня к ней была молодая ревность и дружба. Я носил её джинсы, я был её сверстником-братишкой, там многое было замешано на безумной моей к ней дружбе. Я ею гордился, как более грубоватый братишка попроще может гордиться своим красивым, хрупким, элегантным братом. Её красота была нашей, её сигареты, мне и курить не надо было. То, что мы зверски ебались, для меня было не главным, возможно для неё главным. А я ценил больше её дружбу, её, куда более жизненно изощрённой, со мной, более невинным, не светским. Она была светским, искушённым братишкой, она учила меня манерам, есть с ножом и вилкой, среди прочего, я учился у неё радостно. Когда в Нью-Йорке это случилось, разрыв, произошло с декабря по февраль, я прежде всего забавного, очаровательного, причудливого брата потерял. Это было очень больно. Брат больше не считал меня родным, отказался, гад. Я так ведь любил с братаном напиваться. Как хорошо мы вместе с ней бухали, в одном ритме, два братишки-офицера. Офицеры тут мелькают недаром, мы оба ведь – офицерские дети. И что-то офицерское в нас было, дополнительно связывающее.
Разногласия были с самого начала такие. Я пришёл к ней из контр-культуры, из среды буйной и талантливой, собравшейся в Москву из всей страны. Она жила среди богемы, но богатой, официальной, хотя и фрондерской. Художники Збарский, Мессерер, актёры Галина Волчек, Кваша, Каневский, дирижёр Макс Шостакович, поэт-песенник Наум Олев и им подобные окружали эту девчонку лет с семнадцати. Добавьте сюда богатого лысого мужа, удовлетворявшего все её желания. У нас были классовые противоречия. Мы их сглаживали моим членом и стихами, моими и её. Однако мы с ней часто схлёстывались в споре: чья среда более подлинна и талантлива. Я доказывал, что моя, и только моя. Я оказался тотально прав: из контр-культуры вышли революционер-диссидент Буковский, два мощнейших «чувака», как говаривал Бродский, оба факты общемировой культуры – это я и Бродский, десяток ребят помельче, но значительных творцов, художники Зверев, Кабаков, Яковлев… В дальнейшем этот небольшой, как тогда казалось, разнобой во вкусах вылился в трагедию для неё. Её небольшой творческий импульс иссяк, молодость, растянувшаяся лет до сорока, всё же прошла. Её в сущности буржуазные предпочтения привели её к буржузно-мещанскому мировоззрению и образу жизни, пусть она и контесса. Она не понимает современности, и напыщенная, старомодная, в длиннополой шубе приезжает в Москву, где посещает своих полинявших заслуженных знакомых и участвует в посиделках бывших людей. Где ей понять страсть политики, Национал-Большевистскую Партию, её пацанов, девочек, атрибутику, цели, тюремные заключения. Она от меня на световые годы позади. Всё, что ей осталось – коллекционировать прошлое и ходить на похороны забытых знаменитостей. Надо было, братишка Елена, держаться меня. Судьба твоя была бы фантастической!