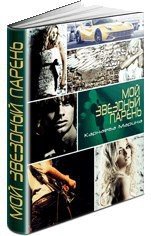Дерби в Кентукки упадочно и порочно - Томпсон Хантер С. (читать книги бесплатно полностью без регистрации сокращений txt) 📗
Мы вернулись в клабхаус, чтобы посмотреть большой забег. Когда толпа встала, отдавая честь флагу и напевая «Мой старый дом Кентукки», Стэдман развернулся лицом к толпе и стал яростно делать зарисовки. Откуда-то с верхних рядов донесся хриплый голос: «Развернись, волосатый урод!» Сам по себе забег занял две минуты, и даже с наших наблатыканных мест, даже смотря в бинокль с 12-ти кратным увеличением не было никакой возможности увидеть, что действительно происходило с нашими лошадьми. Холи Лэнд, на которую поставил Ральф, споткнулась и сбросила жокея на последнем повороте. Моя лошадка, Сайлент Скрин, шла впереди на финишной прямой, но отстала за пять ярдов до финиша. Победителем со ставками 16:1 стал жеребец по имени Даст Коммандер.
Спустя мгновения после окончания забега толпа дико ломанулась к выходам, штурмуя такси и автобусы. На следующий день Courier писал о вспышках насилия на парковке; люди дрались и топтали друг друга, карманы были обчищены, дети потеряны, бутылки разбиты. Но мы все это пропустили, удалившись в пресс-бокс немного выпить после забега. К тому времени мы оба почти свихнулись от переизбытка виски, перегрева на солнце, культурного шока, недосыпания и всеобщего морального разложения. Мы околачивались в пресс-боксе до тех пор, пока не показали большое интервью с владельцем победителя, щеголеватым маленьким человечком по имени Леманн, который сказал, что прилетел этим утром в Луисвилль из Непала, где он «прикупил большущего тигра». Спортжурналисты пробормотали свои слова восхищения, и официант наполнил бокал Лемана «Чивас Регалом». Он только что выиграл $127,000 на лошади, которая обошлась ему в $6,500 два года назад. Его специальностью, сказал он, были «удаленные поставки». А потом добавил, с широкой ухмылкой: «И я только что удалился от дел».
Остаток дня растворился в тумане безумия. Остаток ночи тоже. И весь следующий день и ночь. Происходили такие ужасные вещи, что мне трудно заставить себя даже вспоминать, не то что писать о них. Мне повезло, что я вообще уцелел. Одним из моих самых отчетливых воспоминаний о тех порочных часах было то, как на Ральфа чуть не напал один из моих старых друзей в бильярдной клуба Пенденнис ночью в субботу. Парень порвал на себе рубашку после того, как решил, что Ральф клеится к его жене. До мордобоя так и не дошло, но эмоциональный эффект был серьезный. Потом, как кошмар нам на десерт, Стэдман пустил свой злодейский карандаш в дело, и, пытаясь замять конфликт, стал рисовать девчонку, в склеивании которой он обвинялся. В Пенденнисе нам было лучше уже не оставаться.
Где-то около десяти тридцати утром в понедельник я был разбужен скребущимся звуком у моей двери. Я вылез из-под одеяла и отодвинул занавеску как раз настолько, чтобы увидеть снаружи Стэдмана. «Какого хуя тебе надо?», – крикнул я.
«Как насчет завтрака?», – спросил он.
Я выскочил из кровати и попытался открыть дверь, но она была закрыта на цепочку и снова захлопнулась. Я не мог справиться с цепочкой! Она не выходила из паза – так что я вырвал его из стены, злобно толкнув дверь. Ральф даже не моргнул. «Не повезло», – пробормотал он.
Я едва мог его видеть. Мои глаза опухли и были почти закрыты, от внезапно хлынувшего из-за двери света я ошалел и беспомощно, как больной крот, стоял. Стэдман мычал что-то о плохом самочувствии и ужасной жаре; я лег на кровать и попытался сфокусировать на нем взгляд, пока он метался в весьма хаотичной манере по комнате, потом вдруг метнулся к ящику с пивом, схватив бутылку, как ковбой Кольт 45. «Боже, – сказал я, – Ты выходишь из-под контроля».
Он кивнул и открыл крышку бутылки, сделав большой глоток. «Знаешь, все это правда ужасно», – наконец сказал он. «Я должен выбраться из этого места…» – он нервозно закачал головой. «Самолет улетает в десять тридцать, но я не знаю, успею ли я».
Я почти не слышал его. Мои глаза, наконец, открылись достаточно для того, чтобы я смог сфокусироваться на зеркале в другом конце комнаты, и меня ошеломил шок от узнавания. Сбитый на мгновение с толку, я подумал, что Ральф привел кого-то с собой – модель того особенного лица, которое мы столько искали. Это был он, именем Господа – опухшая, разрушенная пьянками, больная карикатура… как ужасная мультипликационная версия старой фотки из семейного фотоальбома, которым так гордится мама. Это было лицо, которое мы искали – и оно было, конечно же, моим. Кошмар, кошмар…
«Может, мне еще немного поспать», – сказал я. «Почему бы тебе не пойти в „Рыбно-мясное“ заведение и не поесть там этой гнилой рыбы и картошки? А потом возвращайся и разбуди меня где-нибудь в полдень. Я чувствую себя слишком близко к смерти, чтобы шнырять по улицам в это время».
Он замотал головой. «Нет… нет… я лучше пойду к себе и поработаю какое-то время над рисунками». Он нагнулся, чтобы достать из ящика еще две бутылки. «Я пытался работать ранее, – сказал он, – но руки все еще трясутся… Это ужафно, ужафно».
«Ты прекращал бы пить», – сказал я.
Он кивнул. «Я знаю. Это не хорошо, совсем не хорошо. Но почему-то мне от этого становится лучше…»
«Не надолго», – ответил я. «Вполне вероятно, что тебя вечером свалит что-нибудь типа истерической белой горячки – может как раз тогда, когда ты выйдешь из самолета в аэропорту Кеннеди. На тебя наденут смирительную рубашку и бросят в казенный дом, потом будут опускать тебе почки большими палками, пока ты не придешь в себя».
Он пожал плечами и побрел из номера, закрыв за собой дверь. Я вернулся в постель еще на час или около того, а позже – после вылазки за грейпфрутовым соком в супермаркет Найт Оул Фуд – мы последний раз поели в «Рыбно-мясной деревушке»: отличный обед из теста с мясными отрубями, жаренными в топленом сале.
К тому времени Ральф уже не заказывал кофе; он все просил побольше воды. «Это единственное, что у них есть, подходящее для употребления человеком», – объяснил он. Затем, убивая время до самолета, мы разложили его рисунки на столе, подумав над ними какое-то время, пытаясь понять, поймал ли он тот специфический дух происходившего… но не могли заставить наши мозги работать. Руки Стэдмана тряслись так сильно, что он с трудом мог держать бумагу, а мое зрение было так затуманено, что я почти не видел, что там нарисовано. «Блядь», – сказал я. «Мы оба выглядим хуже, чем все, что ты там нарисовал».
Он улыбнулся. «Знаешь, я уже думал об этом», – сказал он. «Мы приехали сюда, чтобы посмотреть на это ужафное зрелище: люди трогаются умом и блюют на себя и все такое… и знаешь что? Мы же сами такие…»
Большой Понтиак Боллбастер прогрызается сквозь пробки на автостраде.
Выпуск новостей по радио сообщает, что Национальная Гвардия устраивает резню со студентами в университете Кент Стэйт и Никсон все еще бомбит Камбоджу. Журналист ведет машину, не обращая внимания на своего пассажира, который сидит почти голый после того, как снял большую часть одежды, которую он держит за окном, пытаясь проветрить ее от Мэйса. Его глаза ярко-красного цвета, а лицо и грудь мокрые от пива, которым он пытался отмыть со своей кожи ужасные химикаты. Перед шерстяных брюк забрызган блевотиной; его тело дергается от приступов кашля и странных всхлипываний. Журналист напролом ведет машину через пробки, тормозит на площадке перед входом в терминал, затем протягивает руку, чтобы открыть дверцу со стороны пассажира и выталкивает англичанина наружу, рыча: «Вали отсюда, жалкий пидор! Поганый свиноеб! (Сумасшедший хохот) Если бы не похмелье, я мудохал бы тебя всю дорогу до Боулинг Грин – ты, хуесосный иностранный гондон. Мэйс слишком хорош для тебя… Мы в Кентукки обойдемся без таких, как ты».