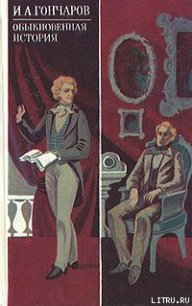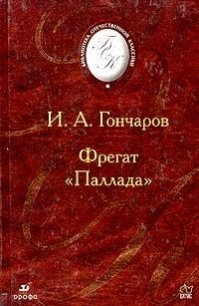Обломов - Гончаров Иван Александрович (электронная книга TXT) 📗
Она молчала, глядя на него пристально, как привидение.
Он смутно догадывался, какой приговор ожидал его, и взял шляпу, но медлил спрашивать: ему страшно было услыхать роковое решение и, может быть, без апелляции. Наконец он осилил себя.
— Так ли я понял?.. — спросил он ее изменившимся голосом.
Она медленно, с кротостью наклонила, в знак согласия, голову. Он хотя до этого угадал ее мысль, но побледнел и все стоял перед ней.
Она была несколько томна, но казалась такою покойною и неподвижною, как будто каменная статуя. Это был тот сверхъестественный покой, когда сосредоточенный замысел или пораженное чувство дают человеку вдруг всю силу, чтоб сдержать себя, но только на один момент. Она походила на раненого, который зажал рану рукой, чтоб досказать, что нужно, и потом умереть.
— Ты не возненавидишь меня? — спросил он.
— За что? — сказала она слабо.
— За все, что я сделал с тобой…
— Что ты сделал?
— Любил тебя: это оскорбление!
Она с жалостью улыбнулась.
— За то, — говорил он, поникнув головой, — что ты ошибалась… Может быть, ты простишь меня, если вспомнишь, что я предупреждал, как тебе будет стыдно, как ты станешь раскаиваться…
— Я не раскаиваюсь. Мне так больно, так больно… — сказала она и остановилась, чтоб перевести дух.
— Мне хуже, — отвечал Обломов, — но я сто'ю этого: за что ты мучишься?
— За гордость, — сказала она, — я наказана, я слишком понадеялась на свои силы — вот в чем я ошиблась, а не в том, чего ты боялся. Не о первой молодости и красоте мечтала я: я думала, что я оживлю тебя, что ты можешь еще жить для меня, — а ты уж давно умер. Я не предвидела этой ошибки, а все ждала, надеялась… и вот!.. — с трудом, со вздохом досказала она.
Она замолчала, потом села.
— Я не могу стоять: ноги дрожат. Камень ожил бы от того, что я сделала, — продолжала она томным голосом. — Теперь не сделаю ничего, ни шагу, даже не пойду в Летний сад: все бесполезно — ты умер!.. Ты согласен со мной, Илья? — прибавила она потом, помолчав. — Не упрекнешь меня никогда, что я по гордости или по капризу рассталась с тобой?
Он отрицательно покачал головой.
— Убежден ли ты, что нам ничего не осталось, никакой надежды?
— Да, — сказал он, — это правда… Но, может быть… — нерешительно прибавил потом, — через год… — У него недоставало духа нанести решительный удар своему счастью.
— Ужели ты думаешь, что через год ты устроил бы свои дела и жизнь? — спросила она. — Подумай!
Он вздохнул и задумался, боролся с собой. Она прочла эту борьбу на лице.
— Послушай, — сказала она, — я сейчас долго смотрела на портрет моей матери и, кажется, заняла в ее глазах совета и силы. Если ты теперь, как честный человек… Помни, Илья, мы не дети и не шутим: дело идет о целой жизни! Спроси же строго у своей совести и скажи — я поверю тебе, я тебя знаю: станет и тебя на всю жизнь? Будешь ли ты для меня тем, что мне нужно? Ты меня знаешь, следовательно понимаешь, что я хочу сказать. Если ты скажешь смело и обдуманно да, я беру назад свое решение: вот моя рука, и пойдем, куда хочешь, за границу, в деревню, даже на Выборгскую сторону!
Он молчал.
— Если б ты знала, как я люблю…
— Я жду не уверений в любви, а короткого ответа, — перебила она почти сухо.
— Не мучь меня, Ольга! — с унынием умолял он.
— Что ж, Илья, права я или нет?
— Да, — внятно и решительно сказал он, — ты права!
— Так нам пора расстаться, — решила она, — пока не застали тебя и не видали, как я расстроена!
Он все не шел.
— Если б ты и женился, что потом? — спросила она.
Он молчал.
— Ты засыпал бы с каждым днем все глубже — не правда ли? А я? Ты видишь, какая я? Я не состареюсь, не устану жить никогда. А с тобой мы стали бы жить изо дня в день, ждать рождества, потом масленицы, ездить в гости, танцевать и не думать ни о чем, ложились бы спать и благодарили бога, что день скоро прошел, а утром просыпались бы с желанием, чтоб сегодня походило на вчера… вот наше будущее — да? Разве это жизнь? Я зачахну, умру… за что, Илья? Будешь ли ты счастлив…
Он мучительно провел глазами по потолку, хотел сойти с места, бежать — ноги не повиновались. Хотел сказать что-то: во рту было сухо, язык не ворочался, голос не выходил из груди. Он протянул ей руку.
— Стало быть… — начал он упавшим голосом, но не кончил и взглядом досказал: "прости!"
И она хотела что-то сказать, но ничего не сказала, протянула ему руку, но рука, не коснувшись его руки, упала, хотела было также сказать: "прощай", но голос у ней на половине слова сорвался и взял фальшивую ноту, лицо исказилось судорогой, она положила руку и голову ему на плечо и зарыдала. У ней как будто вырвали оружие из рук. Умница пропала — явилась просто женщина, беззащитная против горя.
— Прощай, прощай… — вырывалось у ней среди рыданий.
Он молчал и в ужасе слушал ее слезы, не смея мешать им. Он не чувствовал жалости ни к ней, ни к себе, он был сам жалок. Она опустилась в кресло и, прижав голову к платку, оперлась на стол и плакала горько. Слезы текли не как мгновенно вырвавшаяся жаркая струя, от внезапной и временной боли, как тогда в парке, а изливались безотрадно, холодными потоками, как осенний дождь, беспощадно поливающий нивы.
— Ольга, — наконец сказал он, — за что ты терзаешь себя? Ты меня любишь, ты не перенесешь разлуки! Возьми меня, как я есть, люби во мне, что есть хорошего.
Она отрицательно покачала головой, не поднимая ее.
— Нет… нет… — силилась выговорить потом, — за меня и за мое горе не бойся. Я знаю себя: я выплачу его и потом уж больше плакать не стану. А теперь не мешай плакать… уйди… Ах, нет, постой!.. Бог наказывает меня!.. Мне больно, ах, как больно… здесь, у сердца.
Рыдания возобновились.
— А если боль не пройдет, — сказал он, — и здоровье твое пошатнется? Такие слезы ядовиты. Ольга, ангел мой, не плачь… забудь все…
— Нет, дай мне плакать! Я плачу не о будущем, а о прошедшем… — выговаривала она с трудом, — оно "поблекло, отошло"… Не я плачу, воспоминания плачут!.. Лето… парк… помнишь? Мне жаль нашей аллеи, сирени… Это все приросло к сердцу: больно отрывать!..
Она, в отчаянии, качала головой и рыдала, повторяя:
— О, как больно, больно!
— Если ты умрешь? — вдруг с ужасом сказал он. — Подумай, Ольга…
— Нет, — перебила она, подняв голову и стараясь взглянуть на него сквозь слезы. — Я узнала недавно только, что я любила в тебе то, что я хотела, чтоб было в тебе, что указал мне Штольц, что мы выдумали с ним. Я любила будущего Обломова! Ты кроток, честен, Илья, ты нежен… голубь, ты прячешь голову под крыло — и ничего не хочешь больше, ты готов всю жизнь проворковать под кровлей… да я не такая: мне мало этого, мне нужно чего-то еще, а чего — не знаю! Можешь ли научить меня, сказать, что это такое, чего мне недостает, дать это все, чтоб я… А нежность… где ее нет!
У Обломова подкосились ноги, он сел в кресло и отер платком руки и лоб.
Слово было жестоко, оно глубоко уязвило Обломова: внутри оно будто обожгло его, снаружи повеяло на него холодом. Он в ответ улыбнулся как-то жалко, болезненно-стыдливо, как нищий, которого упрекнули его наготой. Он сидел с этой улыбкой бессилия, ослабевший от волнения и обиды, потухший взгляд его ясно говорил: "Да, я скуден, жалок, нищ… бейте, бейте меня!.."
Ольга вдруг увидела, сколько яду было в ее слове, она стремительно бросилась к нему.
— Прости меня, мой друг! — заговорила она нежно, будто слезами. — Я не помню, что говорю: я безумная! Забудь все, будем по-прежнему, пусть все останется, как было…
— Нет! — сказал он, вдруг встав и устраняя решительным жестом ее порыв. — Не останется! Не тревожься, что сказала правду: я стою… — прибавил он с унынием.
— Я мечтательница, фантазерка! — говорила она. — Несчастный характер у меня. Отчего другие, отчего Сонечка так счастлива…
Она заплакала.
— Уйди! — решила она, терзая мокрый платок руками. — Я не выдержу, мне еще дорого прошедшее.