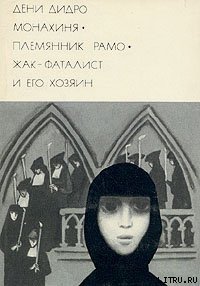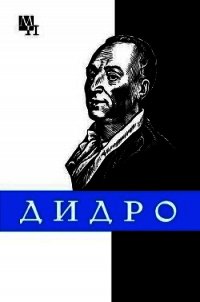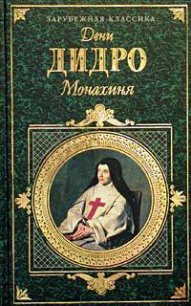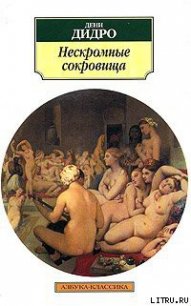Племянник Рaмo - Дидро Дени (читать лучшие читаемые книги .txt) 📗
А если бы наш друг Рамо в одни прекрасный день стал выказывать презрение к богатству, к женщинам, к вкусной еде, к безделью и разыгрывать Катона, кем бы он оказался? Лицемером. Рамо должен быть таким, каков он есть, – счастливым разбойником среди разбойников богатых, а не кричащим о своей добродетели, или даже добродетельным человеком, грызущим корку хлеба в одиночестве и вместе с другими нищими. И чтобы уж все сказать напрямик, меня не устраивает ни ваше благополучие, ни счастье мечтателей – таких, как вы.
Я Я вижу, дорогой мой, что вы и не знаете, что это такое и даже не способны это узнать.
Он. Тем лучше, черт побери, тем лучше. Иначе я подох бы с голоду, со скуки и, может быть, от угрызении совести.
Я. Так, единственный совет, какой я могу вам дать – это поскорее возвратиться в тот дом, откуда вас выгнали из-за вашей опрометчивости.
Он. И делать то, что в прямом смысле вы не порицаете и что немного мне претит в переносном?
Я. Я вам советую.
Он. И невзирая на ту метафору, что мне сейчас не по вкусу, а в другой раз может прийтись и по вкусу.
Я Что за странности!
Он Тут нет ничего странного: я готов быть гнусным, но не хочу чтобы это было по принуждению. Я готов пожертвовать достоинством… Вы смеетесь?
Я. На ваше достоинство меня смешит.
Он. У каждого свое. О моем я готов забыть, но по своей собственной воле, а не по чужому приказанию. Допустимо ли чтобы мне сказали: «Пресмыкайся!»– и чтобы я был Обязан пресмыкаться! Это свойственно червю, свойственно мне мы оба пресмыкаемся, когда нам дают волю, но мы выпрямляемся, когда нам наступят на хвост; мне наступи на хвост, и я выпрямился. К тому же вы не имеете представления о том, что это за отвратительнейшая кунсткамера Вообразите меланхолика и угрюмца, терзаемого недугами, наглухо закутавшегося в халат, противного самому себе, да ему и все противно; у него с трудом вызовет улыбку, хотя бы ты на тысячу ладов изощрялся тело и умом; он остается равнодушен к тому, как забавно кривляется мое лицо и еще забавнее кривляется моя мЫсль а ведь, между нами говоря, даже отец Ноэль, этот гадкий бенедиктинец, столь известный своими гримасами несмотря на весь свой успех при дворе. По сравнению со мной жалкий деревянный паяц. Как я ни бьюсь, чтобы достигнуть совершенствa обитателей сумасшедших домов, ничто не помогает Засмеется? Не засмеется?»– вот о чем я спрашиваю себя когда извиваюсь перед ним, и вы сами посудите, как вредна для таланта подобная неуверенность. Мои ипохондрик, когда нахлобучит на голову ночной колпак, закрывающий ему глаза, напоминает неподвижного китайского болванчика, у которого к подбородку привязана нитка, спускающаяся под кресло. Ждешь, что нитка дернется, а она не дергается, а если и случится, что челюсти раздвинутся, то только для того, чтобы произнести слово, повергающее вас в отчаяние, слово, дающее вам знать, что вас не заметили и что все ваши ужимки пропали даром. Это слово служит ответом на вопрос, который вы, например, задали ему четыре дня тому назад; когда оно сказано, механизм ослабевает и челюсти закрываются.
И тут он начал передразнивать этого человека. Он сел на стул, не двигая головой, нахлобучил шапку по самые брови, свесил руки и, точно автомат, двигая челюстями, произнес: «Да, вы правы, сударыня, тут нужна хитрость».
– Он все время что-нибудь решает, все решает, и при том безапелляционно, решает вечером, утром, за туалетом, за обедом, за ужином, за кофе, за игрой, в театре, в постели и, да простит мне бог, кажется, даже в объятиях своей любовницы. Эти последние решения я не имею возможности услышать, но от остальных я дьявольски устал… Хмурый, унылый, непреклонный, как сама судьба, – вот каков наш патрон.
Против него сидит недотрога, напускающая на себя важность, особа, которой можно было бы решиться сказать, что она хороша собой, ибо она еще в самом деле хороша, хотя на лице ее то тут, то там пятна, и она своим объемом стремится превзойти госпожу Бувийон. Я люблю телеса, когда они хороши, но чрезмерность – всегда чрезмерность, а движение так полезно для материи! Iten, она злее, надменнее и глупее гусыни. Item, она претендует на остроумие. Item, требуется ее уверять, что ее-то и считаешь самой остроумной. Item, она ничего не знает и тоже все решает. Item, ее решениям должно аплодировать и ногами и руками, скакать от восторга и млеть от восхищения: «Как это прекрасно, как тонко, как метко сказано, как удачно подмечено, как необыкновенно прочувствовано! И откуда только женщины это берут? Не изучая, только благодаря чутью, благодаря природному уму! Это похоже на чудо! Пусть после этого нам говорят, что опыт, науки, размышление, образование что-то значат!..» И еще и еще повторять подобные глупости и плакать от радости, десять раз на дню сгибаться, склонив перед ней одно колено, а другую ногу вытянув назад; простирая руки к богине, угадывать по глазам ее желания, ловить движения ее губ, ждать ее приказов и бросаться их исполнять с быстротою молнии. Кто захочет унизиться до такой роли, кроме жалкого существа, которое раза два или три в неделю найдет там, чем успокоить свои мятущиеся кишки? И что подумать о других, о таких, как Палиссо, Фрерои, Пуансине, Бакюлар, у которых кое-какие средства есть и подлость которых нельзя извинить урчанием голодного брюха?
Я. Я бы никогда не подумал, что вы так строги.
Он. Я и не строг. Сперва я смотрел, как делают другие, и делал то же, что они, даже несколько лучше их, ибо я откровеннее в моей наглости, лучше разыгрываю комедию, больше изголодался и легкие у меня лучше. Я, очевидно, по прямой линии происхожу от славного Стентора…
И чтобы дать мне верное представление о мощи этого своего органа, он принялся кашлять с такой силой, что стекла в кафе задребезжали, а шахматисты отвлеклись от своих досок.
Я. Но что за прок от этого таланта?
Он. Вы не догадываетесь?
Я. Нет, я соображаю несколько туго.
Он. Представьте, что завязался спор и еще неясно, на чьей стороне победа; вот я и встаю и с громовым раскатом в голосе говорю: «Сударыня, вы совершенно правы… вот что называется правильным суждением! Держу сто против одного: никто из наших остряков с вами не сравнится. Это выражение просто гениально». Но одобрение не следует выказывать всегда одним и тем же способом: это было бы однообразно, показалось бы неискренним, превратилось бы в пошлость. На помощь тут являются сообразительность, изобретательность; надо уметь подготовить и к месту пустить в ход мажорный решительный тон, уловить случай и минуту. Так, например, когда в чувствах и мнениях полный разброд, когда спор достиг крайней степени ожесточения, когда больше не слушают друг друга и все говорят зараз, надо стать в углу, наиболее отдаленном от поля битвы, подготовиться к взрыву продолжительным молчанием и внезапно бомбой обрушиться на спорящих: никто не владеет этим искусством так, как я. Но в чем я неподражаем, так это в совсем иных вещах – у меня есть и мягкие тона, которые я сопровождаю улыбкой, бесконечное множество ужимок одобрения: тут работают и нос, и рот, и лоб, и глаза; я отличаюсь особой гибкостью поясницы, особой манерой выгибать спину, поднимать или опускать плечи, вытягивать пальцы, наклонять голову, закрывать глаза и разыгрывать изумлении, как будто некий ангельский и божественным голос прозвучал мне с неба, вот это больше всего и льстит. Не знаю, улавливаете ли вы всю силу этой последней позы; изобрел ее' не н, но никто но превзошел меня в ее применении. Вот – смотрит», смотрите.
Я. Согласен: это нечто единственное в своем роде.
Он. Считаете ли вы возможным, чтобы мозги тщеславной женщины против этого устояли?
Я. Нет. Следует признать, что талант шута н способность унижаться вы довели до предела совершенства.
Он. Как бы они ни старались, сколько бы их ни было, им до этого не дойти никогда: так, лучший среди них, Налицо, всегда останется лишь добросовестным учеником. Но если вначале играть эту роль бывает забавно и ты испытываешь известное удовольствие, издеваясь про себя над глупостью тех, кого морочишь, то в конце концов острота ощущений теряется, а потом, после нескольких выдумок, приходится повторяться: остроумие и искусство имеют границы; лишь для господа бога да нескольких редких гениев дорога расширяется по мере того, как они идут вперед. К таким гениям, пожалуй, принадлежит Буре. Про него рассказывают вещи, которые мне, да, даже мне, внушают на его счет самое высокое мнение. Собачка, книга счастья, факелы по дороге в Версаль – все это меня поражает и устыжает; так может пропасть охота к собственному ремеслу.