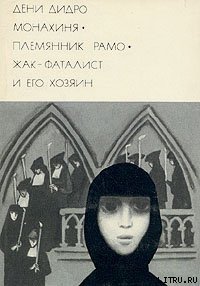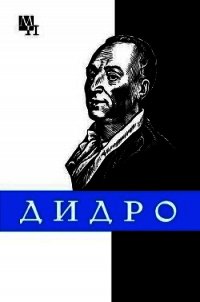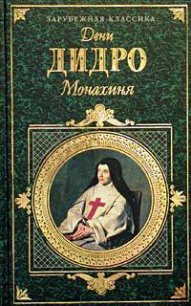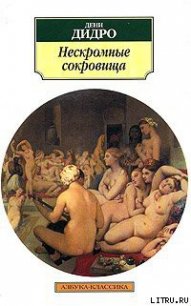Племянник Рaмo - Дидро Дени (читать лучшие читаемые книги .txt) 📗
Я. Но все же это с вами случилось у тех добрых люден, у которых вы жили и которые были к вам так благосклонны.
Он. Что поделаешь? То было несчастье, злоключение, какие порой происходят в жизни; вечного благополучия не существует; мне было слишком хорошо, и так не могло продолжаться. Как вам известно, у нас бывает общество самое многолюдное и самое отборное. Это просто какая-то школа человеколюбия, возрождение древнего гостеприимства. Все поэты, потерпевшие провал, подбираются нами, был у нас налицо после своей «Зары», Брет после «Мнимого благодетеля», все осрамившиеся музыканты, все писатели, которых никто не читает, все освистанные актрисы, все ошиканные актеры, целая куча бедняков, пристыженных, жалких паразитов, во главе которых я имею честь стоять, храбрый вождь трусливого войска. Это я приглашаю их к столу, когда они приходят в первый раз, я приказываю подать им вина. А они занимают так мало места! Есть тут какие-то юноши в лохмотьях, не знающие, куда им податься, но у них счастливая внешность; есть и подлецы, которые лебезят перед хозяином и усыпляют его, чтобы потом поживиться прелестями хозяйки. На вид мы веселые, но, в сущности, мы все злимся и очень хотим есть. Волки не так голодны, как мы, тигры не так свирепы. Все, что нам попадается, мы пожираем, как волки после снежной зимы, раздираем на части, как тигры, всех, кто преуспел. Иногда собираются вместе шайки Вертепа, Монсожа и Вильморьена – вот когда в зверинце поднимается шум! Нигде не увидишь такого множества унылых, сварливых, злых и ожесточенных зверей. Тут только и слышишь что имена Бюффона, Дюкло, Монтескье, Руссо, Вольтера, д'Аламбера, Дидро. И одному богу ведомо, какими эпитетами они сопровождаются! Умен лишь тот, кто так же глуп, как мы. План «Философов» зародился там, сцену с разносчиком придумал я в подражание «Теологии по-бабьи». Вас там щадят не больше, чем других.
Я. Тем лучше! Может быть, мне даже оказывают больше чести, чем я заслуживаю. Мне было бы стыдно, если бы те, кто дурно говорит о стольких замечательных и честных людях, хорошо отозвались обо мне.
Он. Нас много, и каждый должен принести свою дань. После заклания крупных животных мы расправляемся и с прочими.
Я. Поносить науку и добродетель ради куска хлеба! Дорого же он вам достается.
Он. Я вам говорил уже, что с нами не считаются. Мы всех ругаем, но никого не обижаем. Иногда нас посещают грузный аббат д'0ливе, толстый аббат Ле Блан, лицемер Батте; толстый аббат бывает сердит лишь до обеда. Выпив кофе, он разваливается в кресле, упирается ногами в решетку камина и засыпает, как старый попугай на своей жерди. Если шум слишком уж усиливается, он позевывает, потягивается, трет себе глаза и спрашивает: «А? Что такое? Что такое?»-«Речь о том, остроумнее ли Пирон, чем Вольтер?» – «Давайте условимся: речь, значит, идет об остроумии? Не о вкусе? Ведь о вкусе ваш Пирон не имеет и понятия». – «Не имеет…» И вот мы пускаемся в рассуждения о вкусе. Тут хозяин делает рукою знак, чтобы его слушали, ибо вкус – его конек. «Вкус, – говорит он, – вкус – это такая вещь…» Не знаю уж, ей-богу, что это за вещь, да и он не знает.
Иногда у нас бывает дружище Роббе; он угощает нас своими двусмысленными рассказами, чудесами, которые у него на глазах совершали исступленные фанатики, да чтением песен из своей поэмы на сюжет, известный ему до тонкости. Я терпеть не могу его стихов, но люблю слушать, как он их читает; он похож тогда на бесноватого. Все кругом восклицают: «Вот что называется поэт!» Между нами говоря, эта поэзия не что иное, как смесь всякого рода беспорядочных звуков, дикое бормотанье, словно у обитателей Вавилонской башни.
Посещает нас и некий простачок, на вид пошлый и глупый, но умный, как черт, и притом хитрее старой обезьяны. Это одно из тех лиц, которые навлекают на себя шутки и щелчки по носу и которых господь создал в назидание людям, судящим по внешности, хотя и зеркало могло бы научить их тому, что быть умным человеком, а походить на глупца – дело столь же обычное, как прятать глупость под личиной ума. Широко распространенная подлость состоит в том, что какого-нибудь простака выставляют на посмешище; желая позабавить гостей, мы тоже все время обращаемся к нашему простаку; это – ловушка, которую мы расставляем всем вновь прибывшим, и почти каждый в нее попадался.
У этого чудака Рамо меня иной раз поражала меткость наблюдений над людьми и их характерами, и я ему это высказал.
– Дело в том, – ответил он мне, – что из дурной компании, так же как и из разврата, извлекается некоторая выгода; утрата невинности вознаграждается утратой предрассудков. В обществе злых людей, где норок выступает без маски, мы по-настоящему и распознаем предрассудки; кроме того, я кое-что читал.
Я. Что же вы читали?
Он. Я читал, читаю и беспрестанно перечитываю Феофраста, Лабрюйера и Мольера.
Я. Превосходные книги.
Он. Они гораздо лучше, нежели думают. Только кто умеет их читать?
Я. Все в меру своих умственных сил.
Он. Почти никто не умеет. А можете вы мне. сказать, чего в них ищут?
Я. Развлечения и поучения.
Он. Но какого поучения? Ведь все дело в этом.
Я. Познания своих обязанностей, любви к добродетели, ненависти к пороку.
Он. Я-то извлекаю из них все, что следует делать, и все, чего не следует говорить. Так, когда я читаю «Скупого», я говорю себе: будь скуп, если хочешь, но остерегайся говорить как скупой. Когда я читаю «Тартюфа», я говорю себе: будь, если хочешь, лицемером, но не говори как лицемер. Сохраняй пороки, которые тебе полезны, но избегай сопутствующего им тона и внешнего вида, которые могут сделать тебя смешным. Чтобы обезопасить себя от этого тона, от этого внешнего вида, надо их знать, а указанные авторы превосходно их изобразили. Я – это я, и я остаюсь тем, чем являюсь, но я действую и говорю, как подобает порядочному человеку. Я не из тех людей, что презирают моралистов; можно много полезного получить от них, особенно от тех, которые свою мораль приводят в действие. Порок раздражает людей лишь от случая к случаю, а внешние его черты раздражают их с утра до вечера. Пожалуй, лучше быть наглецом, чем иметь внешность наглеца: наглец по складу характера раздражает только время от времени, наглец по внешнему виду раздражает всегда. Не подумайте, впрочем, чти я единственный читатель в таком роде; моя заслуга здесь только в том, что я благодаря системе, точному суждению, разумному и правильному взгляду делаю то, что большинство делает просто по чутью. Поэтому от чтения они не становятся лучше меня, а остаются смешными, несмотря на него, между тем как я бываю смешон, лишь когда хочу, и тогда я оставляю их далеко позади себя, ибо искусство, которое учит меня, как в одних случаях не быть смешным, в других учит меня успешно вызывать смех. Тогда я вспоминаю все, что говорили другие, что я сам читал, и к этому прибавляю то, что извлекаю из собственного источника, а он в этом смысле поразительно щедр.
Я. Вы хорошо сделали, что открыли мне эти тайны, иначе я бы решил, что вы сами себе противоречите.
Он. Отнюдь нет, ибо на один случаи, когда не следует быть смешным, приходится, к счастью, сто случаев, когда следует смешить. Нет лучшей роли при сильных мира сего, чем роль шута. Долгое время существовало звание королевского шута, но никогда не было звания королевского мудреца. Что до меня, то я шут Бертена и многих других, может быть, в эту минуту и ваш, или, может быть, вы – мой шут. Кто мудр, не стал бы держать шута; следственно, тот, кто держит шута, не мудр; если он не мудр, он сам шут и, будь он королем, он, пожалуй, был бы шутом своего шута. Впрочем, помните, что в области столь изменчивой, как нравы, нет ничего верного или ложного в полном, существенном, всеобъемлющем смысле слова, кроме того, что следует быть таким, каким выгодно быть, то есть добрым или злым, мудрецом или шутом, благопристойным или смешным, честным или порочным. Если бы случайно добродетель могла привести к богатству, т или был бы добродетелен, или притворялся бы добродетельным, как другие. Меня хотели видеть смешным – и я стал смешным. Что до порочности, то ею я обязан одной только природе. Когда я говорю о порочности, то я пользуюсь вашим языком, ибо, если бы мы могли понять друг друга, могло бы статься, что вы назвали бы пороком то, что я зову добродетелью, а добродетелью – то, что я зову пороком.