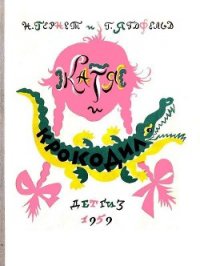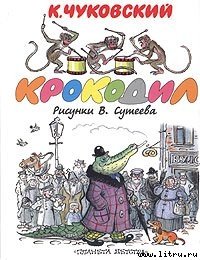Юмор серьезных писателей - Достоевский Федор Михайлович (книги без регистрации TXT, FB2) 📗
— Потерпи немного. Обвенчаемся — ходи куда хочешь.
— Ну, давай обвенчаемся.
— Не могу еще.
— Почему? Я не бродяга, сама видишь…
— Не могу, говорят тебе… Боюсь…
— Чего, чего ты боишься?
Вдова перепугалась — видимо, сказала лишнее. Он схватил ее за плечи, тряс, как грушу. Она губы стиснула, побледнела, молчала.
В тот же день шел он домой под дождем, нес ситник. Малая Якиманка не Париж: все же засосала Гирькина тоска по людям, по улицам. С умилением даже трепушек вспомнил. Раздумался, влез у ворот в лужу, промочил ноги. Варвары на кухне след простыл. Гирькин снял воровы башмаки, пошел в носках к себе. Видит, дверь приотворена, в комнате жидкий, необыкновенный свет. И чей-то чужой голос бормочет, причитывает.
Гирькин обомлел у дверной щели: перед угольником горят три лампады, Софья Ивановна стоит в черной шали, руки прижала к груди, дико глядит на огоньки. Около на табуретке лежат книжки Гирькина, и над ними нагнулась отчитывает их сморщенная старушонка. В руке кропило, — кунает его в медный кувшин и кропит на книги.
«Эге, вот оно что!» — подумал Гирькин, осторожно вернулся на кухню и там курил, покуда над книгами не кончилась операция. Он вдове и вида не подал, что видел сквозь двери, — так это его ошарашило.
На другой день хватился политграмоты — нашел в печке один обгорелый корешок. Не вытерпел Гирькин, рявкнул:
— Восемь гривен за книжку отдано, черт бы вас забодал, Софья Ивановна…
Вдова кинулась к образам. Лицо дрожит. Пальцами сложила крест, прикрылась им. Гирькин потом чуть в ногах не валялся — еле-еле восстановил равновесие.
Старушонка с той поры стала забегать ежедневно. Сушила гнилой подол у печки, вся закапанная воском, постная до последней возможности, — шептала про владычиц:
— У (такой-то) владычицы ручку целовала, милая моя, у (такой-то) свечку за копеечку ставила, а бежала оттуда к (такой-то) владычице, прочла на стене любострастную надпись, и вся я, милая моя, затрепетала, как мышь… Ходят, ходят по Москве не наши, луканьки, пишут, пишут… Ох, милая моя, не читай писанного на стенах, на заборах, печатанного не читай без яти… На Солянке весь забор обклеен в пол-аршина буквами, — язык вырви — это слово тебе не скажу, — такой срам…
Она наклонилась к вдове:
— Мандат…
Вдова вспыхнула, руки прижала к щекам. Старушонка мелко затопталась от удовольствия…
— И ведь так и горит по всему забору… Да что, милая моя… А последнее время в честные дома стали пробираться…
— Кто? — дико спросила вдова.
— Да все они же, «игрецы», милая моя… И бумаги у них выправлены, как у людей, и уплотняют они по ордеру, да… Одна примета у них — ногти синее нашего… Человек мне сказывал: доживаем, говорит, последние полтора месяца… Аминь! Аккурат ночью под Новый год настанет наша мука. Будет полный сбор ихний. Пройдут они бесчисленной толпой с прелестным лозунгом от самого Дорогомилова. И пойдут они бесстыдно, в обнаженном виде. И от Красных Ворот разбегутся по домам, жилистые, срамные — вот соблазн, милая…
Тут вдова так пронзительно взвизгнула, рванулась под лампады, что и старушка оробела, и у Гирькина за дверью застучала челюсть.
— Это будет последнее искушение. Половина народа погибнет, — ну, тогда вступится Михаил-архангел и большевики пропадут, а всем истинно верующим будет оказано большое денежное пособие.
Гирькин слушал эти разговоры, главным образом стоя за дверью. Когда входил, старушонка замолкала, только благостно покряхтывала. При нем же, попивая чаек, она заводила другое — двуличное:
— Вот и верно, что при царе плохо жилось, а нынче хорошо. Из Тарусы одной знакомой племянники пишут: «Дорогая тетя, слава труду, живем хорошо… Папенька наш сослан за Ледовитый океан… А при царском режиме две лавки были… У маменьки, слава труду, чахотка. Крыша у нас при ненавистном царе не текла, а нынче совсем протекла». Умно так эти дети пишут… Ох, господи, господи…
Но едва Гирькин за дверью — старушонка шепчет вдове:
— Он это, мать владычица, он… Где у тебя глаза-то, опомнись… Все капиталы из тебя вымотает… До народного судьи доведет. Ты уж и так с лица спала. А когда он всю-то тебя опутает, как муху, тут и запустит когти в бока…
— Да что ты… Да будет тебе… Не хочу, не верю! — металась вдова.
Действительно, стала она худеть, мучиться. То не позволяла Гирькину пальцем до себя дотронуться, то схватит его за виски, вопьется, целует жадно… Застонет, ляжет на постель, завернется с головой в шаль.
Сердце у Гирькина оказалось привязчивое: чем больше мучила его вдова, тем сильнее нравилась.
Он и книги бросил, и на вуз махнул рукой. Варвара спозаранку теперь мчалась в студию, являлась только ночевать. Жильцы из других комнат в домишке Софьи Ивановны доставляли ему немало хлопот. «Иван, — звали из одной комнаты две сестры Израилевич, — извиняюсь, возьмите у нас помои». За отсутствием Варвары он таскал ведра, мел коридор, мыл кухню. К сестрам Израилевич ходил мрачный зубной врач, и тогда одна из сестер — та, что пострашнее, — уходила спать на пол в кухню, где всю ночь стонала и всхлипывала, тревожа вдову и тем самым Гирькина. В другой Комнате жил изобретатель Заикин. Стоя в дверях, скребя бороду и нечесаные волосы, он говорил басом «Иван Иванович, дорогуша, я вот как раз в пылу творчества, родной, слетайте за пивом, за папиросами». В чулане жил советский служащий, мучительно влюбленный в Варвару. По ночам он бился коленками о перегородку, повторял надрывающимся голосом: «Ах, одиночество, одиночество!» — и всегда в чулане что-то валилось. Вдова толкала Гирькина локтем: «Посмотри, не воры ли…»
Он все сносил. Взглянет, как за окнами моросит несказанная гниль, вспомнит белые плечи Софьи Ивановны…
«…Нет, надо терпеть. Черепушку разобью, навоз буду есть, — повторял он любимое выражение, — а из этого дома меня канатом не вытащишь. Старушонку бы только угробить, чтобы не шлялась. Это она гадит наши отношения».
Гирькин был прав. Вдова раздиралась надвое между ним и старушонкой. Гирькин ей был мил, но непонятен, как, например, новые слова: мосрайрабкооп или госпромцветмет. От этих слов у нее щемила душа, хотелось прилечь на кровать, обмотать голову шалью. Старушонка же звала ее в понятное, в насиженное, но в великую скуку. Вдова и верила ей, и сомневалась, и жутко ей было, и вся молодость ее тянулась к простодушному Гирькину. Ну, а вдруг он — подосланный? Не наш, лукавый в прелестной личине? Опутает, обольстит да ночью поднимет голову с подушки, а голова у него с бараньими рогами, со срамным носом?
И вдова не жила, а будто ее по живому телу пороли ножом. За вечерним чаем она сказала:
— Нервы у меня все дочиста в беспорядке, — и заплакала. Старушонка зашуршала и, должно быть уже не в первый раз, стала поминать какого-то отца Иванушку, старца великой святости.
— Все равно, зови кого хочешь, — плакала вдова.
Тогда Гирькин понял, что старушонку немедленно надо ликвидировать.
Как ей уходить, он стал за дровами в сенях на черном ходу.
Притаился и там в темноте схватил старушечку, зажал ей рот и сказал шепотом, но твердо:
— Попробуй только, чертова ворона, еще раз к нам прийти, я тебя нагишом выбью за ворота, в район сволоку, там тебе пропишут показательный процесс. Поняла, стерва?
Старушонка дробно тряслась, все поняла. И действительно, дня три ее и духу не было. Вдова была тиха, кротка, грустна. Гирькин садился читать книжки и даже бегал в университетскую канцелярию за справками. Погода повернула со слякоти на морозец. Полетели за окнами белые мухи — первый снежок, наряжая Москву в серебряные ризы.
И вот тут-то беда и пришла.
Гирькин колол дрова в сарае. Поднял колун и из-за руки вдруг видит: в ворота вошли старушонка и с ней высокий, бородатый мужик с ковровой сумой, с посохом, босиком, без шапки. Лицо сердитое, с большим носом, с медвежьими злыми глазами, на костлявых плечах кафтан, сквозь дыры видно тело.
Гирькин следом за ними пробрался в дом. Дверь у вдовы оказалась на крючке. За дверью гудел сердитый, как туча, мужской голос.