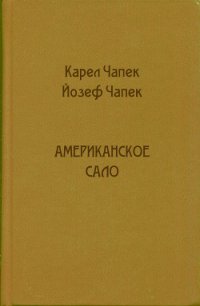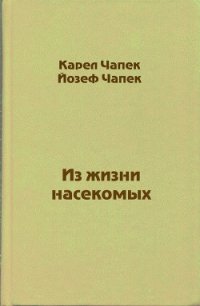Искушение брата Транквиллия (сборник) - Чапек Карел (книги регистрация онлайн .txt) 📗
Начали поединок.
Сначала бились по правилам, потому что оба были хорошими фехтовальщиками и были сильнее нынешних людей. В те времена еще знали прекрасные старые приемы, удобные для маневра, вроде двенадцатого нижнего, старой Сициллы или восьмого обратного парада и другие, сейчас давно забытые. Так было поначалу, потом они разгорячились, забыли о приемах и принялись кружить по кругу, как разъяренные олени. Вдруг одна из рапир сломалась, а другая отлетела в сторону, оба кинулись к ней, но мой отец, рассердясь на это, схватил ее и переломил.
– Сабли, – потребовал один из двух (отец не разобрал кто). Отец колебался, и только когда оба поклялись ему, что не прикоснутся друг к другу, пока он не вернется, побежал домой за саблями. Тогда сабли были более изогнутые, их называли «чимитары».
Вернувшись, отец нашел противников сидящими друг против друга на камнях, оба были в масках, грудь у одного была окровавлена. И вот они сошлись снова. Вы сами знаете – шпаги звенят, поединок на шпагах – перезвон колокольчиков, который кончается колотой раной шпаги – галантная кадриль с прекрасными ассо и приемами.
Две недели тому назад меня пригласили быть секундантом в поединке на тяжелых драгунских саблях; я стар, мне теперь становится не по себе, когда я вижу длинные рубленые раны, мне неприятно слышать короткий стук сабель. Мне кажется теперь, что бой на саблях более опасен, чем это требуется для поединка. Я прекрасно знаю, что сабли – наиболее честная форма решения спора, но я состарился, и мне страшно видеть проткнутое горло, как это случилось две недели назад. Я считаю, что поединок – не столько проявление гнева, сколько обряд примирения, и смерть – не обязательный финал дуэли. Простите меня, если вам не по душе речь бессильного старца.
Началась вторая половина жестокого боя, как вдруг послышался крик – Джанина стояла на краю поля; услышав звон сабель, она выбежала из купальни на Пьяве и с диким ужасом смотрела на мужчин в черных масках. Что тут началось! Мужчины оглянулись, и оба из-под черных масок увидели Джанину – прекрасную награду победителя. Оба с криком подняли сабли и принялись бешено сечь по головам, плечам, по воздуху, клинок в клинок, разбрызгивая кровь, крутясь, как волчки. Отец с воплем ужаса поднял руки и кинулся между ними, но тут же отскочил с рассеченной ладонью и плечом, а оба безумца погнали его через луг, размахивая саблями. Потом снова завели свой танец, кружась по всему полю, ослепленные собственной кровью. Так гонялись по лугу две маски, а Джанина шла по пятам за этой чудовищной парой, вглядываясь в лица бойцов, чтобы понять, кто скрыт под черными масками; обезумевшая и страшная, она, казалось, сошла с ума. Соперники, ослепленные кровью, заливавшей им глаза, рубили друг друга, то сталкиваясь, то теряя один другого; вдруг они оказались совсем рядом, кто-то из них, взмахнув чимитарой, нанес удар по голове противника и рассек ее. Мой отец, содрогнувшись, опустился на землю возле умирающего и снял с него маску.
– Паоло, – сказал он тихо, отирая с лица погибшего кровь и мозг.
– Паоло, – ликующе вскричала Джанина, закружилась и упала на землю.
Не снимая с лица иссеченной, пропитанной кровью маски, Никколо, тяжело дыша, опустился на камень, обессиленный битвой и потерей крови. Тут Джанина обняла обнаженными руками его трясущиеся ноги и зашептала:
– Паоло, я не боялась, я знала, что ты его убьешь. Паоло, ты сильнее его.
– Ты его убил, – жестоко и торжествующе вскрикнула она, вскочив, и, стоя над трупом Паоло, обратилась к моему отцу: – Никколо умер? Трижды проверьте, умер ли он, и тогда скажите мне, что Паоло его убил.
Отец в ужасе оглянулся на Никколо. Тот уже поднялся, но его лица под маской не было видно. Джанина обняла его за шею, прижимаясь к нему всем своим охваченным страстью телом, и, опьяненная, целовала его окровавленные губы.
– Паоло, – шептала она, – люблю тебя со вчерашнего вечера, когда ты меня целовал. Теперь неси меня в Бови, Паоло. – И снова целовала его окровавленные губы.
Никколо, не говоря ни слова, поднял на руки драгоценную ношу и, не сняв маски, не отерев окровавленный лоб, побежал к дому Козимо, который стоял ближе других.
– В Бови! – воскликнула Джанина в его объятиях.
Отец омыл в Пьяве свои раны и спрятал труп Паоло, а вечером они с патером Джудичи похоронили его в освященной земле. На счастье, в тот же день на перекрестке кто-то убил австрийского жандарма, поэтому они пустили слух, будто это Паоло Парута убил его и скрылся в горах.
Паоло начали разыскивать. Но так как произошло все это в марте двадцать первого года и у всех на устах было сражение в Неаполе и трехдневные схватки в Пьемонте, об этом происшествии скоро позабыли.
Старый кавалер задумался и сказал: – В «Ричарде Втором» говорится: «Горе настоящее внутри, а внешние печали проявленья – лишь тени бледные незримой скорби, растущей молча в горестной душе». Лучшее лекарство от горя – действие. Страдания женщин смягчаются слезами и криками – это их счастье. Мужское горе – проклятие, оно замыкает их уста, оставляя на лицах тень страдания, как надпись на закрытой книге. Но хуже всего тем, кто вынужден и эту тень скрывать под маской, загоняя боль внутрь.
На другой день отец пришел в дом Козимо навестить Никколо. Беккари лежал с забинтованной головой и лицом, глаза его были закрыты. Джанина, которая сидела подле него, кивнула отцу:
– Тише, Паоло спит. Целый день не открывает глаз. Этот проклятый дьявол, этот пес Никколо рассек ему всю голову и лицо.
Потом она взяла отца за руку и усадила рядом с собой.
– Нери, – зашептала она, – вы не знали, что я люблю Паоло?! Моя любовь сильна, как архангел, и сладостна, как дуновение ветерка. Если бы Паоло не убил Беккари, я сама убила бы его, я всадила бы ему в сердце иглу, смоченную белладонной, чтобы он умер в мучениях. Но Паоло сильнее Никколо.
Тут повязки на лице Никколо двинулись, и кровь обагрила корпию. Джанина не заметила этого, она прижалась лицом к груди Никколо и целовала со страстью влюбленной женщины. Отец отвернулся к окну, чтобы ничего не видеть. Когда женщина охвачена страстью, руки ее источают негу и даже легкое прикосновение ее пальцев как поцелуй, а от ее поцелуев кружится голова.
Джанина была прекрасна в своей любви. Кто не задрожал бы от блаженства под ее поцелуями, кто бы не закричал от страсти, не протянул бы рук к этой женщине, которая, изнемогая, признавалась, что она побеждена? Нет ничего сильнее слабости женщины, охваченной страстью, нет ничего победительнее ее побежденности, чище ее смущения и ничего привлекательнее ее стремления защититься.
– Нет ничего удивительнее, – заключал мой отец, – пробуждения женщины в девственнице, которая вчера еще была погружена в мечты и томление, а сегодня постигла вдруг все искусство, все тайны соблазнительности и кокетства, смятение, сладость и горение великой минуты, когда женщина отдает всю себя. В полноте женственности, в блаженстве унижения она учится говорить: я твоя! И какой мужчина не преисполнится счастьем обладания, когда женщина – это тело, эти прекрасные руки и дивные ноги, эти движения, томные или страстные, – все это беззащитно покоится в его объятиях, сломленное, счастливое и побежденное познанием великого слова. Но как ни велико это блаженство, несравнимо большими были страдания Никколо.
В то время как мой отец размышлял об этом, а Джанина затихла на груди у Никколо, он открыл глаза, сверкнувшие из-за белой корпии, и взглянул на моего отца, ничего не говоря и не двигаясь, и снова опустил веки. Отец не мог вынести этого взгляда и тихо вышел из дома.
Вот так же он опускал глаза перед Беккари, когда тот уже начал поправляться и с обвязанной головой гулял по саду, поддерживаемый Джаниной, сияющей от счастья и любви и сладко шептавшей: «Паоло».
Так выздоравливал Никколо подле своей возлюбленной, мысли которой помутились во время поединка; хотя на самом-то деле ее ум был помрачен любовью, потому что не было ничего более странного, чем страсть этой девушки, которая незадолго до этого была Христовой невестой, а ныне, обессиленная объятиями, ходила по дому с распущенными волосами и полуоткрытыми жаждущими губами, с расширенными, сухими глазами, будто умоляющими, чтобы новый поток страстей сокрушил ее; чтобы она изнемогла от невыразимых радостей, достойных ее безумия, чтобы она приняла смерть, замученная новым блаженством, которое она будет не в силах пережить.