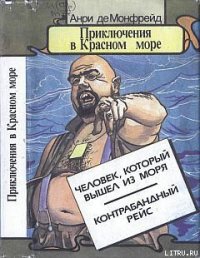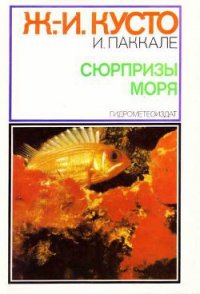Приключения в Красном море. Книга 2 (Человек, который вышел из моря. Контрабандный рейс) - Монфрейд Анри де (версия книг .txt) 📗
Нет ничего грустнее пейзажей на фоне бетона, былое уединение и очарование которых разрушены уродливыми сооружениями. Впрочем, здешние краски все так же великолепны, и каждый вечер я не устаю любоваться феерией ирреального заката, который невозможно описать ни на одном языке. Думаю, что подобное зрелище можно увидеть лишь на севере Красного моря.
Ветер не ослабевает, и мне приходится смириться с вынужденным ожиданием. Нам предстоит войти в лабиринт рифов, где возможно плыть только днем. Но я уверен, что благодаря относительному спокойствию внутренних вод и бризов, дующих с берега, мы наверстаем упущенное время.
Я не буду описывать наше долгое и опасное плавание в узком фарватере, наводненном коралловыми рифами.
Сегодня утром, вычерпав, как всегда, воду из трюма, юнга сообщил мне, что воды набралось гораздо больше, чем обычно. Это тревожный признак для судна. Но, судя по вкусу воды, она поступает не только из моря. Спустившись в трюм, я убеждаюсь, что лопнули еще две бочки, обручи которых проржавели. Какой ужас! В этом крае, где перегоняют морскую воду, до самого Суэца не встретишь ни одного колодца.
Я закрепляю бочечную клепку с помощью веревки, методом «висельника» [32].
Передо мной вновь встает прежняя проблема. Я вижу только один выход — запастись водой в одном из поселков, раскиданных вокруг буровых скважин. Для этого нам нужно подняться против ветра по фарватеру шириной не более трех кабельтовых, протянувшемуся на две с лишним мили. Частые зигзаги, которые приходится проделывать, весьма неудобны, ибо оснастка вынуждает поворачивать судно через фордевинд, и при каждом новом галсе мы теряем время, которое наверстали благодаря попутному ветру. За три часа, что мы преодолевали узкий проход, нам пришлось ложиться на другой борт более ста пятидесяти раз. Этот маневр очень затруднителен из-за того, что длинный реёк каждый раз перемещается на другой борт, и особенно из-за того, что шкот оказывается на передней части мачты и яростно бьется при сильном ветре, когда провисает парус. Вся команда бросается его усмирять и натягивать парус. Если шкот нечаянно вырвется из рук, он может не только убить людей, но на время оставить корабль без управления, и судно немедленно налетит на рифы. Мы выбираемся из опасных вод без происшествий, но у всех матросов до крови ссажены руки.
Мы быстро проходим мимо Абу-Мингара, где я замечаю на берегу металлические цистерны, в которых, видимо, хранится нефть. Все заводское оборудование на виду: огромные черные трубы тянутся по песку и уходят в глубь земли, в скважины. Воздух отравлен запахом нефти.
Мы бросаем якорь у небольшого причала. Никто как будто не обращает на нас внимания: кули в длинных рубашках продолжают лениво толкать вагонетки, напевая, чтобы не заснуть.
Наконец какой-то европеец — рабочий в голубых брюках и желтой рубашке — приказывает нам жестом освободить место стоянки. Неподалеку двое других мужчин в шляпах и шортах, видимо англичан, молча ждут наших дальнейших действий.
Что же делать? Я ставлю судно на другое место, а сам высаживаюсь на берег и направляюсь к невозмутимым англичанам. Но мне преграждает путь человек, приказавший уйти с якорной стоянки. Это один из тех типичных тружеников египетских портов, которые говорят на всех средиземноморских языках с немыслимым акцентом. Трудно сказать, какой он национальности: мальтиец, грек, итальянец или араб.
— Что вам надо? — спрашивает он отнюдь не любезно.
— Я бы хотел поговорить с директором этого завода или с тем, кто его заменяет.
— Его здесь нет, — отвечает мастер, — он у буровой скважины, в восьми километрах отсюда. Это час езды по узкоколейке.
— А те два джентльмена…
— Это английские инженеры.
Мастер разъясняет уже более любезно, что здесь мне ничего не найти, только возле шахты есть столовая, где можно купить продуктов. Но для этого надо получить разрешение.
Я обращаюсь к англичанам, которые окидывают меня презрительно-подозрительными взглядами, какими обычно удостаивают коммивояжера, который заявляется к вам, чтобы предложить свой товар. Мне тут же приходит на память плантатор из Хайфы…
Я называю свое имя и национальность, говорю, что прибыл из Джибути, и рассказываю о несчастном случае, в результате которого остался без воды. Мой рассказ ничуть не трогает англичан. Наконец один из них вынимает изо рта трубку и нехотя отвечает мне по-французски с ужасным акцентом:
— Вход на территорию, где ведутся разработки, запрещен посторонним, и я не могу ради вас взять на себя такую ответственность. Вам следует обратиться за разрешением в Каир.
Я продолжаю настаивать, ибо во всех странах мира в воде не отказывают даже собаке.
— Это невозможно, — заключает англичанин и снова кладет трубку в рот, точно запирает дверь на засов.
Я отвечаю ему какой-то резкостью, не в силах сдержать свой гнев, но он даже не слышит, склонившись над планом, который его коллега расстелил на спине одного из кули, как на столе.
Обернувшись в сторону пирса, я вижу причаливший пароходик — дряхлый буксир, осуществляющий ежедневную связь между различными стройками и нефтяными разработками в бухте Гимзы.
Капитан судна, как и мастер, с которым я только что говорил, — человек неопределенной национальности. Но он — настоящий моряк, и я получаю от него воду, картофель и даже буханку хлеба.
Когда я рассказываю ему, как встретили меня англичане, он пожимает плечами и говорит со знанием дела:
— Все они одинаковы, прибрали к рукам страну и теперь показывают свою власть.
Меня тошнит от запаха мазута, лязга железа и суеты, которую создают грязные люди. После месячного плавания в пустынных водах, где ничто не стесняло моей свободы, меня угнетает вид этого некогда прекрасного уголка природы, оскверненного моими ближними. Прежний пейзаж утратил свое очарование, волновавшее мое воображение. Я ощущал себя в этой пустыне центром, мыслящим очагом бесконечной вселенной и жаждал слиться с ней телом и духом, повинуясь таинственному внутреннему голосу.
Горе тому, кто испытал чувство причастности к природе — страшное одиночество будет угнетать его всякий раз, когда ему вновь придется возвращаться в людское стадо.
Я держу курс в открытое море, в сторону Аравии. Азиатский берег еще не подвергся натиску промышленности, и мне не грозит там ни вид унылых труб, ни встреча с неразговорчивыми английскими инженерами.
Но через два часа стемнеет, и я не успею за это время добраться до берега. Лучше попытаться миновать ночью Жубальский пролив. Быть может, мне повезет с попутным ветром.
Но реальность быстро разрушает призрачные надежды. Сумерки спускаются прежде, чем мы огибаем южную оконечность острова Шадвана.
Этот большой скалистый остров сторожит вход в Суэцкий залив, подобно Периму, охраняющему Баб-эль-Мандебский пролив. Он представляет из себя гряду красноватых, изрытых оврагами холмов без малейшего признака растительности, отвесно спускающихся в море. Скалистая стена без кромки берега возвышается вдоль пролива подобно кораблю, развернувшемуся на якоре наперекор ветру.
Маяк с красными прожекторами, установленный на южном мысе лицом к открытому морю, указывает путь судам, входящим в залив. Слева и справа простираются скрытые за горизонтом берега, подходы к которым усеяны рифами, тянущимися в море более чем на шесть миль. Днем на востоке виднеется Синайский массив, а далеко на западе — неровные пики египетского берега. Днем любое судно может легко войти в пролив, но ночью остров Шадван теряется во тьме, берега тоже исчезают, и корабль разбивается о подводные скалы.
Понятно, какое значение приобретает здешний маяк.
В тот миг, когда я миную остров Шадван, последние отблески заката озаряют башню маяка у подножия горы, возвышающуюся на двадцать метров над берегом. Рядом с ней стоит маленький домик смотрителя. Я вижу в бинокль человека, который рассматривает нас в подзорную трубу. Этот отшельник, оторванный от мира, интересуется всем, что происходит в море, как и моряк во время долгого плавания. Немного ниже нависает над морем небольшая деревянная пристань, к которой, видимо, причаливает пароход, снабжающий маяк всем необходимым.