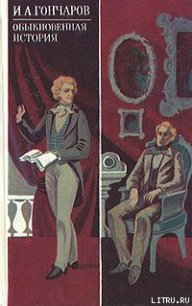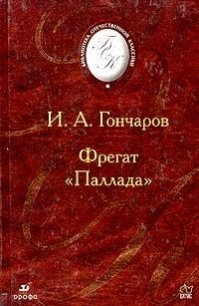Обломов - Гончаров Иван Александрович (электронная книга TXT) 📗
Вы не любите меня, но вы не лжете — спешу прибавить, — не обманываете меня, вы не можете сказать да, когда в вас говорит нет. Я только хочу доказать вам, что ваше настоящее люблю не есть настоящая любовь, а будущая, это только бессознательная потребность любить, которая, за недостатком настоящей пищи, за отсутствием огня, горит фальшивым, негреющим светом, высказывается иногда у женщин в ласках к ребенку, к другой женщине, даже просто в слезах или в истерических припадках. Мне с самого начала следовало бы строго сказать вам: „Вы ошиблись, перед вами не тот, кого вы ждали, о ком мечтали. Погодите, он придет, и тогда вы очнетесь, вам будет досадно и стыдно за свою ошибку, а мне эта досада и стыд сделают боль“, — вот что следовало бы мне сказать вам, если б я от природы был попрозорливее умом и пободрее душой, если б, наконец, был искреннее… Я и говорил, но, помните, как: с боязнью, чтоб вы не поверили, чтоб этого не случилось, я вперед говорил все, что могут потом сказать другие, чтоб приготовить вас не слушать и не верить, а сам торопился видеться с вами и думал: „Когда-то еще другой придет, я пока счастлив“. Вот она, логика увлечения и страстей.
Теперь уже я думаю иначе. А что будет, когда я привяжусь к ней, когда видеться — сделается не роскошью жизни, а необходимостью, когда любовь вопьется в сердце (недаром я чувствую там отверделость)? Как оторваться тогда? Переживешь ли эту боль? Худо будет мне. Я и теперь без ужаса не могу подумать об этом. Если б вы были опытнее, старше, тогда бы я благословил свое счастье и подал вам руку навсегда. А то…
Зачем же я пишу? Зачем не пришел прямо сказать сам, что желание видеться с вами растет с каждым днем, а видеться не следует? Сказать это вам в лицо — достанет ли духу, сами посудите! Иногда я и хочу сказать что-то похожее на это, а говорю совсем другое. Может быть, на лице вашем выразилась бы печаль (если правда, что вам нескучно было со мной), или вы, не поняв моих добрых намерений, оскорбились бы: ни того, ни другого я не перенесу, заговорю опять не то, и честные намерения разлетятся в прах и кончатся уговором видеться на другой день. Теперь, без вас, совсем не то: ваших кротких глаз, доброго, хорошенького личика нет передо мной, бумага терпит и молчит, и я пишу покойно (лгу): мы не увидимся больше (не лгу).
Другой бы прибавил: пишу и обливаюсь слезами, но я не рисуюсь перед вами, не драпируюсь в свою печаль, потому что не хочу усиливать боль, растравлять сожаление, грусть. Вся эта драпировка скрывает обыкновенно умысел глубже пустить корни на почве чувства, а я хочу истребить и в вас и в себе семена его. Да и плакать пристало или соблазнителям, которые ищут уловить фразами неосторожное самолюбие женщин, или томным мечтателям. Я говорю это, прощаясь, как прощаются с добрым другом, отпуская его в далекий путь. Недели чрез три, чрез месяц было бы поздно, трудно: любовь делает неимоверные успехи, это душевный антонов огонь. И теперь я уже ни на что не похож, не считаю часы и минуты, не знаю восхождения и захождения солнца, а считаю: видел — не видел, увижу — не увижу, приходила — не пришла, придет… Все это к лицу молодости, которая легко переносит и приятные и неприятные волнения, а мне к лицу покой, хотя скучный, сонный, но он знаком мне, а с бурями я не управлюсь.
Многие бы удивились моему поступку: отчего бежит? скажут, другие будут смеяться надо мной: пожалуй, я и на то решаюсь. Уж если я решаюсь не видаться с вами, значит на все решаюсь.
В своей глубокой тоске немного утешаюсь тем, что этот коротенький эпизод нашей жизни мне оставит навсегда такое чистое, благоуханное воспоминание, что одного его довольно будет, чтоб не погрузиться в прежний сон души, а вам, не принеся вреда, послужит руководством в будущей, нормальной любви. Прощайте, ангел, улетайте скорее, как испуганная птичка улетает с ветки, где села ошибкой, так же легко, бодро и весело, как она, с той ветки, на которую сели невзначай!“
Обломов с одушевлением писал: перо летало по страницам. Глаза сияли, щеки горели. Письмо вышло длинно, — как все любовные письма: любовники страх как болтливы.
„Странно! Мне уж не скучно, не тяжело! — думал он. — Я почти счастлив… Отчего это? Должно быть, оттого, что я сбыл груз души в письмо“.
Он перечитал письмо, сложил и запечатал.
— Захар! — сказал он. — Когда придет человек, отдай ему это письмо к барышне.
— Слушаю, — сказал Захар.
Обломову в самом деле стало почти весело. Он сел с ногами на диван и даже спросил: нет ли чего позавтракать. Съел два яйца и закурил сигару. И сердце и голова у него были наполнены, он жил. Он представлял себе, как Ольга получит письмо, как изумится, какое сделает лицо, когда прочтет. Что будет потом?..
Он наслаждался перспективой этого дня, новостью положения… Он с замиранием сердца прислушивался к стуку двери, не приходил ли человек, не читает ли уже Ольга письмо… Нет, в передней тихо.
„Что ж бы это значило? — с беспокойством думал он. — Никого не было: как же так?“
Тайный голос тут же шептал ему: „Отчего ты беспокоишься? Ведь тебе это и нужно, чтоб не было, чтоб разорвать сношения?“ Но он заглушал этот голос.
Чрез полчаса он докликался Захара со двора, где тот сидел с кучером.
— Не было никого? — спросил он. — Не приходили?
— Нет, приходили, — отвечал Захар.
— Что ж ты?
— Сказал, что вас нет: в город, дескать, уехали.
Обломов вытаращил на него глаза.
— Зачем же ты это сказал? — спросил он. — Я что тебе велел, когда человек придет?
— Да не человек приходил, горничная, — с невозмутимым хладнокровием отозвался Захар.
— А письмо отдал?
— Никак нет: ведь вы сначала велели сказать, что дома нет, а потом отдать письмо. Вот, как придет человек, так отдам.
— Нет, нет, ты… просто душегубец! Где письмо? Подай сюда! — сказал Обломов.
Захар принес письмо, уже значительно запачканное.
— Ты руки мой, смотри! — злобно сказал Обломов, указывая на пятно.
— У меня руки чисты, — отозвался Захар, глядя в сторону.
— Анисья, Анисья! — закричал Обломов.
Анисья выставилась до половины из передней.
— Посмотри, что делает Захар? — пожаловался он ей. — На вот письмо и отдай его человеку или горничной, кто придет от Ильинских, чтоб барышне отдали, слышишь?
— Слышу, батюшка. Пожалуйте, отдам.
Но только она вышла в переднюю, Захар вырвал у ней письмо.
— Ступай, ступай, — закричал он, — знай свое бабье дело!
Вскоре опять прибежала горничная. Захар стал отпирать ей дверь, а Анисья подошла было к ней, но Захар яростно взглянул на нее.
— Ты чего тут? — спросил он хрипло.
— Я пришла только послушать, как ты…
— Ну, ну, ну! — загремел он, замахиваясь на нее локтем. — Туда же!
Она усмехнулась и пошла, но из другой комнаты в щелку, смотрела, то ли сделает Захар, что велел барин.
Илья Ильич, услышав шум, выскочил сам.
— Что ты, Катя? — спросил он.
— Барышня приказали спросить, куда вы уехали? А вы и не уехали, дома! Побегу сказать, — говорила она и побежала было.
— Я дома. Это вот все врет, — сказал Обломов. — На вот, отдай барышне письмо!
— Слушаю, отдам!
— Где барышня теперь?
— Они по деревне пошли, велели сказать, что если вы кончили книжку, так чтоб пожаловали в сад часу во втором.
Она ушла.
„Нет, не пойду… зачем раздражать чувство, когда все должно быть кончено?..“ — думал Обломов, направляясь в деревню.
Он издали видел, как Ольга шла по горе, как догнала ее Катя и отдала письмо, видел, как Ольга на минуту остановилась, посмотрела на письмо, подумала, потом кивнула Кате и вошла в аллею парка.
Обломов пошел в обход, мимо горы, с другого конца вошел в ту же аллею и, дойдя до середины, сел в траве, между кустами, и ждал.
„Она пройдет здесь, — думал он, — я только погляжу незаметно, что она, и удалюсь навсегда“.
Он ждал с замирающим сердцем ее шагов. Нет, тихо. Природа жила деятельною жизнью, вокруг кипела невидимая, мелкая работа, а все, казалось, лежит в торжественном покое.