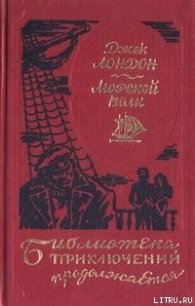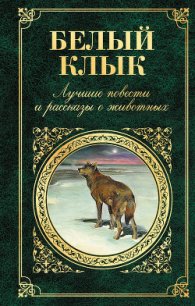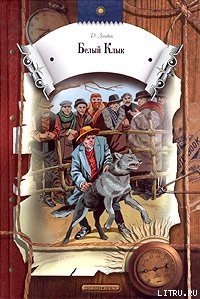Белый Клык. Любовь к жизни. Путешествие на «Ослепительном» - Лондон Джек (читать книги онлайн бесплатно серию книг TXT) 📗
Любопытство было так сильно, что весь совет, с Клош-Кваном во главе, отправился в иглоо Киша. Он ел, но встретил их с почетом и усадил их соответственно положению каждого. Икега была горда и вместе с тем смущена, но Киш держался совершенно спокойно.
Клош-Кван рассказал про то, что сообщили Бим и Баун, и строго закончил:
— Киш, ты должен объяснить, как ты охотишься. Это волшебство.
Киш посмотрел на них и улыбнулся.
— Нет, Клош-Кван, — сказал он, — не мальчику заниматься чародейством. Я ничего не знаю о колдовстве. Я только придумал средство убивать медведя без труда, вот и все. Это ум, а не волшебство.
— И каждый может сделать то же самое?
— Да, каждый.
Молчали долго. Мужчины глядели друг на друга, а Киш продолжал есть.
— И… и… ты нам расскажешь, Киш? — спросил Клош-Кван дрожащим голосом.
— Да, я вам расскажу. — Киш кончил высасывать мозг из кости и встал на ноги. — Дело совсем простое. Смотри!
Он достал тонкий кусок китового уса и показал его. Концы были остры, как иглы. Он свернул ус так, что тот исчез в его руке. Затем разжал ее, и ус с силой выпрямился. Потом он поднял кусок тюленьего жира.
— Вот так, — сказал он. — Ты берешь маленький кусок тюленьего жира и делаешь в нем отверстие. Туда всовываешь китовый ус, туго свернутый, и покрываешь другим куском жира. Затем ты выносишь его на воздух, где он замерзает и превращается в круглый шарик. Медведь проглатывает шарик, жир тает, китовый ус выпрямляется, медведь чувствует боль и начинает метаться взад и вперед. Когда ему делается очень плохо, ты убиваешь его копьем. Это совсем просто.
Уг-Глок сказал: «О!», а Клош-Кван протянул: «А!» — каждый сказал по-своему, и все поняли.
Такова история Киша, жившего давно у края Полярного моря. Не колдовство, а ум помог ему оставить самую жалкую хижину и стать первым человеком в своей деревне.
Рассказывают, что, пока он жил, племя его благоденствовало; и ни одна вдова, ни одно слабое существо не плакали ночью от голода.
Путь ложных солнц
Ситка Чарлей курил и глядел задумчиво на иллюстрацию, вырезанную из «Полицейской Газеты» и прикрепленную к стене. В течение получаса разглядывал он картину, и в течение всего этого получаса я незаметно за ним наблюдал. Что-то происходило в его уме, и я знал, что, во всяком случае, его мысли заслуживают интереса. Он жил деятельной жизнью и видел многое на своем веку. Он совершил самое большое чудо — отказался от собственного народа и, насколько это вообще возможно для индейца, обратился, по всему своему складу, в белого человека. Сам он, повествуя об этой перемене, говорил, что сел у наших огней и сделался одним из наших. Он никогда не учился читать и писать, но обладал богатым запасом слов. Еще более замечательной была точность, с какой он воспринял взгляды белых людей и отношение их ко всем вещам.
Мы напали на эту покинутую хижину после дня тяжелого пути. Собаки были накормлены; обеденная посуда вымыта; постели приготовлены. Мы наслаждались тем приятным часом, который наступает на аляскинском пути ежедневно, но лишь раз в течение дня. Это час, когда усталый путник перед тем, как улечься, выкуривает свою вечернюю трубку.
Кто-то из прежних обитателей хижины украсил ее стены иллюстрациями, вырезанными из журналов и газет. Эти-то картины и привлекли внимание Ситки Чарлея с момента нашего прихода, два часа назад.
Он напряженно изучал их, переходя от одной к другой и снова возвращаясь к прежним. Лицо его было озадачено.
— Ну? — прервал я наконец молчание.
Он вынул трубку изо рта и сказал просто:
— Я не понимаю.
Затем снова закурил и снова вынул трубку, чтобы указать ею на картину из «Полицейской Газеты».
— Эта картина… что она значит? Я не понимаю.
Я посмотрел на рисунок. Человек с преувеличенно злым лицом падал навзничь на пол, прижимая руки театральным жестом к сердцу. Над ним, с лицом не то падшего ангела, не то Адониса, [5]стоял другой человек с дымящимся после выстрела револьвером в руке.
— Один человек убивает другого, — ответил я, чувствуя, что и я разделяю его недоумение и нуждаюсь в объяснении.
— Почему? — спросил Ситка Чарлей.
— Я не знаю, — признался я.
— В этой картине только конец, — сказал он. — Она не имеет начала.
— Это — жизнь, — сказал я.
— Жизнь имеет начало, — возразил он.
Я не знал, что сказать. В это время его глаза остановились на соседней иллюстрации. Это была репродукция чьей-то картины «Леда и Лебедь». [6]
— Эта картина, — сказал он, — не имеет ни начала, ни конца. Я не понимаю картины.
— Посмотри на ту картину, — сказал я, показывая на третий рисунок. — Она имеет смысл. Скажи мне, что она означает?
Он несколько минут изучал рисунок.
— Маленькая девочка больна, — сказал он наконец. — На нее смотрит доктор. Они всю ночь не ложились, смотри — в лампе нет масла. Первые лучи утреннего света входят в окно. Это очень опасная болезнь, может быть, она умрет. Поэтому доктор смотрит так сурово. Это ее мать. Это очень опасная болезнь, потому что голова матери лежит на столе и она плачет.
— Откуда ты знаешь, что она плачет? — прервал я его. — Ты не видишь ее лица. Может быть, она спит.
Ситка взглянул на меня, словно внезапно удивившись, а затем внимательно посмотрел на картину.
Очевидно было, что он не обдумал своего впечатления.
— Может быть, она спит, — повторил он. Он внимательно изучал изображение. — Нет, она не спит. Плечи показывают, что она не спит. Я видел плечи плачущей женщины. Мать плачет. Это — очень опасная болезнь.
— И ты понимаешь картину? — воскликнул я.
Он покачал головой и спросил:
— Маленькая девочка — она умрет?
В свою очередь я молчал.
— Умрет она? — повторил он. — Ты — художник. Может быть, знаешь.
— Нет, я не знаю, — признался я.
— Это — не жизнь, — категорически заявил он. — В жизни девочка умрет или выздоровеет. В жизни что-нибудь случится. На картине ничего не случится. Нет, я не понимаю картины.
Он был явно разочарован. Он хотел понять все, что понимают белые люди, и здесь — в этом вопросе — ему это не удавалось. Я чувствовал вместе с тем, что в его вопросах был вызов. Он хотел во что бы то ни стало заставить меня разъяснить ему мудрость картины.
Нужно сказать, что у него были поразительные способности мыслить образами. Он видел жизнь в образах, чувствовал ее в образах, обобщал посредством образов. Но он не понимал образов, выраженных при помощи красок и линий другими людьми.
— Картина — кусок жизни, — сказал я. — Мы рисуем жизнь так, как ее видим. Представь себе, Чарлей, что ты идешь по тропе. Ночь. Ты видишь хижину. Окно освещено. Ты смотришь в окно в течение одной или нескольких секунд, ты видишь что-то и затем продолжаешь путь. Быть может, ты увидел человека, который писал письмо. Ты видел что-то, не имевшее ни начала ни конца. Ничего не случилось. И все же ты видел кусок жизни. Ты запомнил его. Этот кусок жизни — словно картина в твоей памяти. Окно — рамка картины.
Он, видимо, заинтересовался, и я знал, что в то время как я говорил, он представил себе окно и, заглянув, видел человека, пишущего письмо.
— Есть одна картина, которую ты нарисовал. Я ее понимаю, — сказал он. — Это правдивая картина. В ней много смысла. Она в твоем домике в Даусоне. Это стол игры в «фараон». За столом люди играют. Игра идет большая. Играют без ограничения ставки.
— Почему ты знаешь, что играют без ограничения? — спросил я с интересом. Я был рад услышать беспристрастное суждение о моей работе такого человека, который знал только жизнь, а не искусство, и был исключительно художником действительности. К тому же я очень гордился этой картиной. Я назвал ее «Последняя ставка» и считал, что это одно из лучших моих произведений.
— На столе нет золота, — пояснил Ситка Чарлей. — Люди играют на марки. Это значит, что нет ограничений. Один человек играет желтыми марками. Может быть, одна желтая фишка стоит тысячу долларов, а может быть — и две. Другой играет красными. Может быть, каждая из этих — пять тысяч долларов, а может быть — тысячу. Это очень большая игра. Все ставят очень высоко. Почему я это знаю? Ты нарисовал банкомета с румянцем на лице (я был в восторге). Ты нарисовал понтера [7]наклоненным к столу. Почему он наклонился вперед? Почему его лицо так напряженно? Почему его глаза так блестят? Почему банкомету жарко — у него на лице румянец? Почему все так молчаливы — и человек с желтыми марками, и человек с белыми марками, и человек с красными? Почему никто не разговаривает? Потому что игра на большие деньги. Потому, что это — последняя ставка.