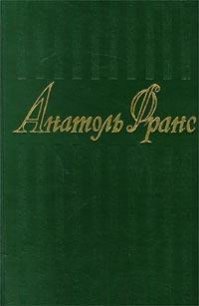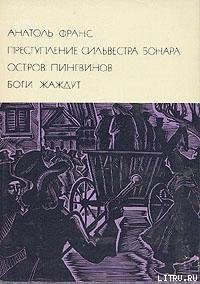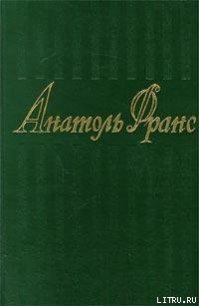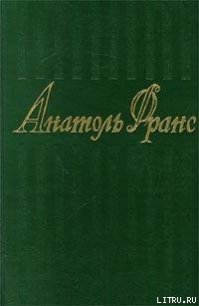Кренкебиль - Франс Анатоль "Anatole France" (книги онлайн полностью бесплатно .TXT) 📗
А г-жа Куэнтро, не отвечая ни слова, гордо удалялась в принадлежавшую ей большую булочную. Лавочницы и привратницы, недавно толпившиеся вокруг его веселой зеленой тележки, теперь отворачивались от него. Дойдя до башмачной мастерской у Ангела-хранителя, места, где начались все его судебные злоключения, он окликнул:
– Госпожа Байар, госпожа Байар, вы мне должны четырнадцать су с того раза.
Но г-жа Байар, восседавшая за конторкой, не удостоила его даже поворотом головы.
Вся улица Монмартр знала, что папаша Кренкебиль вышел из тюрьмы, и вся улица Монмартр не хотела больше его знать. Слух о суде над ним дошел до предместья и до шумного перекрестка улицы Рише. Там, около полудня, он увидел, как г-жа Лора, хорошая, верная его покупательница, наклонилась над тележкой молодого парня – Мартена. Она ощупывала большой кочан капусты. Как золотые нити, блестели на солнце ее волосы, завязанные пышным узлом. А этот мальчишка Мартен, дрянь, сопляк, клялся ей, положа руку на сердце, что лучше товара, чем у него, – не найти. От этого зрелища сердце Кренкебиля чуть не разорвалось. Он наехал своей тележкой на тележку мальчишки Мартена и сказал г-же Лоре жалобным, надтреснутым голосом:
– Нехорошо изменять мне.
Г-жа Лора, как она и сама считала, не была герцогиней. Не в светском обществе сложились ее понятия о «салатной корзинке» и об арестном доме. Но ведь можно быть честной в любом положении, не правда ли? Каждый бережет свое достоинство, и с человеком, вышедшим из тюрьмы, не любят иметь дело. И вместо ответа она только сморщилась, будто ее вот-вот вырвет. И старый разносчик, почувствовав жестокую обиду, заорал:
– Ах ты, потаскуха!
Тут г-жа Лора уронила свой кочан капусты и закричала:
– Вот как! Старая кляча! Вышел из тюрьмы и еще людей оскорбляет!
Сохрани Кренкебиль хладнокровие, он никогда бы не попрекнул г-жу Лору ее профессией. Он слишком хорошо знал, что в жизни делаешь не то, что хочешь, что ремесло выбирать не приходится и что повсюду можно встретить порядочных людей.
У него был благоразумный обычай не соваться в домашние дела своих покупательниц и никого не презирать. Но он был вне себя; он трижды обозвал г-жу Лору потаскухой, шлюхой и падалью. Кружок любопытных собрался вокруг г-жи Лоры и Кренкебиля, которые обменялись еще несколькими ругательствами, столь же изысканными, как и первые, и они выложили бы весь свой запас, если бы внезапно появившийся полицейский, застывший и молчаливый, не заставил бы их тоже застыть и онеметь. Они разошлись в разные стороны. Но эта сцена окончательно погубила Кренкебиля во мнении предместья Монмартр и улицы Рише.
Последствия
Старик шел, бормоча:
– Право, она шлюха. Другой такой шлюхи не найти.
Но в глубине сердца Кренкебиль знал, что не за это он упрекал ее. Он не презирал ее за то, чем она была. Он даже уважал ее, зная, как она бережлива и какой у нее во всем порядок. В былые времена они частенько болтали вдвоем. Она рассказывала ему о своих родных, которые жили в деревне. И они оба строили планы, как они будут копаться в садике и разводить кур. Она была хорошая покупательница. Когда он увидел, что она выбирает капусту у этого мальчишки Мартена, паршивца, молокососа, ему показалось, что его ударили под ложечку; а когда она скорчила презрительную рожу, он разозлился, ну и вот…
Хуже всего было то, что не она одна смотрела на него, как на запаршивевшую собаку. Никто больше не хотел его знать. Не только г-жа Лора, но и г-жа Куэнтро-булочница, г-жа Байар от Ангела-хранителя и остальные презирали его, не желали иметь с ним дела. Все общество, не угодно ли?
Значит, из-за того, что человека засадили на две недели, он не годится теперь даже пореем торговать? Разве это справедливо? Есть ли здравый смысл – заставлять честного человека умирать с голоду оттого, что у него были неприятности со шпиками? Если он не может больше продавать овощи, ему остается только сдохнуть.
Он скис, как плохое вино. После того как он «поговорил» С г-жой Лорой, он бранился уже со всеми. Ни с того, ни с сего он сообщал покупательницам все, что о них думал, и, смею вас уверить, не стеснялся в выражениях. Если они чуть-чуть дольше перебирали товар, он уже обзывал их пустобрехами без гроша в кармане; в кабачке он тоже грубо ругался с собутыльниками. Его друг, торговец каштанами, заявлял, что он его не узнает и что папаша Кренкебиль – просто дикообраз. Спору не было: он стал неприличен, неуживчив, зол на язык, криклив. Дело в том, что, находя общество несовершенным, он не мог с такой же легкостью, как какой-нибудь профессор Высшей школы моральных и политических наук, высказать свои идеи о пороках всей системы и о необходимых реформах, да и мысли в его голове сменялись без всякого порядка и последовательности.
Несчастье сделало его несправедливым. Он вымещал свою обиду на тех, кто не желал ему зла, а иногда и на тех, кто был слабее его. Однажды он дал затрещину Альфонсу, сынишке виноторговца, потому что тот спросил, хорошо ли в тюрьме. Он дал ему затрещину и сказал:
– Паршивец! Это твоему отцу надо бы сидеть за решеткой вместо того, чтобы наживаться на продаже отравы.
И слова и поступок не делали ему чести, потому что, как правильно указал ему торговец каштанами, нельзя бить ребенка и попрекать его отцом, которого ведь не выбираешь.
Он стал пить. Чем меньше он выручал, тем больше выпивал водки. Когда-то бережливый и трезвый, он сам дивился этой перемене в себе.
– Никогда не был я транжиром, – говорил он. – Видно, с годами теряешь разум.
Иногда он строго осуждал себя за беспутство и лень:
– Старина Кренкебиль, ты теперь только для выпивки и годишься.
Иногда, обманывая сам себя, он доказывал, что ему надо пить:
– Время от времени нужно мне выпить стаканчик, чтобы подкрепиться и освежиться. Право же, у меня нутро горит. Только выпивка и освежает.
Часто случалось с ним, что он пропускал утренние торги и доставал только попорченный товар, который ему отпускали в кредит. Однажды, чувствуя, что ноги под ним подгибаются, а сердце еле бьется, он оставил тележку в сарае и весь день провел, слоняясь между лавкой г-жи Розы, торговки требухой, и кабаками Центрального рынка. Вечером он сидел на какой-то корзине и думал, и тут ему самому стало ясно его падение. Он вспомнил свою силу в молодости, тогдашнюю работу без отдыха, удачные выручки, бесчисленные дни, одинаково наполненные делом, те сто шагов, которые он отмеривал по плитам рынка ночами, поджидая открытия торгов; большие охапки овощей, которые он перетаскивал в свою тележку и потом искусно раскладывал, чашку горячего черного кофе у тетки Теодоры, проглоченного на ходу, оглобли тележки, за которые в те времена так крепко хватались его руки; свой крик, раздиравший утренний воздух, крик здоровый и пронзительный, как пенье петуха, свой путь по людным улицам, всю свою жизнь, честную и грубую, жизнь человека-лошади, который в течение полувека на своей тележке развозил горожанам, истерзанным бессонными ночами и заботами, свежий урожай огородов. И, покачав головой, вздохнул:
– Нет! Во мне уже нет прежней силы. Я человек конченный. Повадился кувшин по воду ходить, там ему и голову сломить. Да после моего дела с судом у меня и характер не тот. Нет, не тот я человек!
Наконец он совсем опустился. Он был в таком состоянии, как человек, который упал на землю и не может подняться. Все прохожие топчут его.
Окончательные последствия
Пришла нужда, черная нужда. Старый зеленщик, который когда-то приносил из предместья Монмартр кошелек, набитый монетами по сто су, теперь не имел ни гроша. Была зима. Выгнанный из своей каморки, он ночевал в сарае под телегами. Больше трех недель шли дожди, вода переполняла все стоки, и сарай затопило.
Скорчившись в своей тележке, над зловонными лужами, в обществе пауков, крыс и голодных кошек, он размышлял в темноте. Он ничего не ел целые сутки, у него теперь не было мешков, которые ему давал торговец каштанами, чтобы укрыться; и ему вспомнились те две недели, в течение которых государство давало ему кров и пищу. Он позавидовал судьбе узников, которые не страдают ни от холода, ни от голода, и ему в голову пришла одна мысль: