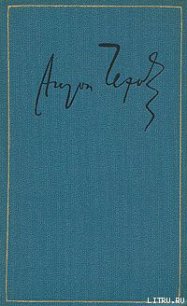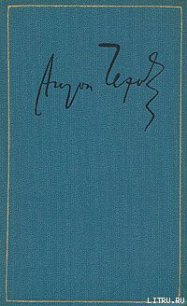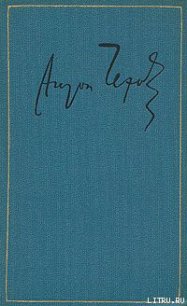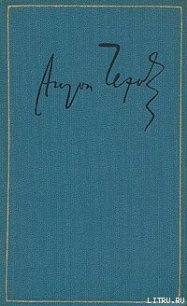Рассказы. Юморески. 1886—1886 - Чехов Антон Павлович (читать книги онлайн полностью без сокращений txt) 📗
— Я люблю вас, Надя!
Боже мой, чтo делается с Наденькой! Она вскрикивает, улыбается во всё лицо и протягивает навстречу ветру руки, радостная, счастливая, такая красивая.
А я иду укладываться…
Это было уже давно. Теперь Наденька уже замужем; ее выдали, или она сама вышла — это всё равно, за секретаря дворянской опеки, и теперь у нее уже трое детей. То, как мы вместе когда-то ходили на каток и как ветер доносил до нее слова «Я вас люблю, Наденька», не забыто; для нее теперь это самое счастливое, самое трогательное и прекрасное воспоминание в жизни…
А мне теперь, когда я стал старше, уже непонятно, зачем я говорил те слова, для чего шутил…
Агафья
В бытность мою в С—м уезде мне часто приходилось бывать на Дубовских огородах у огородника Саввы Стукача, или попросту Савки. Эти огороды были моим излюбленным местом для так называемой «генеральной» рыбной ловли, когда, уходя из дому, не знаешь дня и часа, в которые вернешься, забираешь с собой все до одной рыболовные снасти и запасаешься провизией. Собственно говоря, меня не так занимала рыбная ловля, как безмятежное шатанье, еда не вовремя, беседа с Савкой и продолжительные очные ставки с тихими летними ночами. Савка был парень лет 25, рослый, красивый, здоровый, как кремень. Слыл он за человека рассудительного и толкового, был грамотен, водку пил редко, но как работник этот молодой и сильный человек не стоил и гроша медного. Рядом с силой в его крепких, как веревка, мышцах разливалась тяжелая, непобедимая лень. Жил он, как и все, на деревне, в собственной избе, пользовался наделом, но не пахал, не сеял и никаким ремеслом не занимался. Старуха мать его побиралась под окнами, и сам он жил, как птица небесная: утром не знал, что будет есть в полдень. Не то, чтобы у него не хватало воли, энергии или жалости к матери, а просто так, не чувствовалось охоты к труду и не сознавалась польза его… От всей фигуры так и веяло безмятежностью, врожденной, почти артистической страстью к житью зря, спустя рукава. Когда же молодое, здоровое тело Савки физиологически потягивало к мышечной работе, то парень ненадолго весь отдавался какой-нибудь свободной, но вздорной профессии вроде точения ни к чему не нужных колышков или беганья с бабами наперегонку. Самым любимым его положением была сосредоточенная неподвижность. Он был в состоянии простаивать целые часы на одном месте, не шевелясь и глядя в одну точку. Двигался же по вдохновению и то только, когда представлялся случай сделать какое-нибудь быстрое, порывистое движение: ухватить бегущую собаку за хвост, сорвать с бабы платок, перескочить широкую яму. Само собою разумеется, что при такой скупости на движения Савка был гол как сокол и жил хуже всякого бобыля. С течением времени должна была накопиться недоимка, и он, здоровый и молодой, был послан миром на стариковское место, в сторожа и пугало общественных огородов. Как ни смеялись над ним по поводу его преждевременной старости, но он и в ус не дул. Это место, тихое, удобное для неподвижного созерцания, было как раз по его натуре.
Случилось мне быть у этого самого Савки в один из хороших майских вечеров. Помню, я лежал на рваной, затасканной полости почти у самого шалаша, от которого шел густой и душный запах сухих трав. Подложив руки под голову, я глядел вперед себя. У ног моих лежали деревянные вилы. За ними черным пятном резалась в глаза собачонка Савки — Кутька, а не дальше, как сажени на две от Кутьки, земля обрывалась в крутой берег речки. Лежа я не мог видеть реки. Я видел только верхушки лозняка, теснившегося на этом берегу, да извилистый, словно обгрызенный край противоположного берега. Далеко за берегом, на темном бугре, как испуганные молодые куропатки, жались друг к другу избы деревни, в которой жил мой Савка. За бугром догорала вечерняя заря. Осталась одна только бледно-багровая полоска, да и та стала подергиваться мелкими облачками, как уголья пеплом.
Направо от огорода, тихо пошёптывая и изредка вздрагивая от невзначай налетавшего ветра, темнела ольховая роща, налево тянулось необозримое поле. Там, где глаз не мог уж отличить в потемках поле от неба, ярко мерцал огонек. Поодаль от меня сидел Савка. Поджав под себя по-турецки ноги и свесив голову, он задумчиво глядел на Кутьку. Наши крючки с живцами давно уже стояли в реке, и нам ничего не оставалось делать, как только предаваться отдыху, который так любил никогда не утомлявшийся и вечно отдыхавший Савка. Заря еще не совсем погасла, а летняя ночь уж охватывала своей нежащей, усыпляющей лаской природу.
Всё замирало в первом, глубоком сне, лишь какая-то не известная мне ночная птица протяжно и лениво произносила в роще длинный членораздельный звук, похожий на фразу: «Ты Ни-ки-ту видел?» и тотчас же отвечала сама себе: «Видел! видел! видел!»
— Отчего это нынче соловьи не поют? — спросил я Савку.
Тот медленно повернулся ко мне. Черты лица его были крупны, но ясны, выразительны и мягки, как у женщины. Затем он взглянул своими кроткими, задумчивыми глазами на рощу, на лозняк, медленно вытащил из кармана дудочку, вложил ее в рот и запискал соловьихой. И тотчас же, точно в ответ на его писканье, на противоположном берегу задергал коростель.
— Вот вам и соловей… — усмехнулся Савка. — Дерг-дерг! Дерг-дерг! Словно за крючок дергает, а ведь небось тоже думает, что поет.
— Мне нравится эта птица… — сказал я. — Ты знаешь? Во время перелета коростель не летит, а по земле бежит. Перелетает только через реки и моря, а то всё пешком.
— Ишь ты, собака… — пробормотал Савка, поглядев с уважением в сторону кричавшего коростеля.
Зная, каким любителем был Савка послушать, я рассказал ему всё, что знал о коростеле из охотничьих книг. С коростеля я незаметно перешел на перелет. Савка слушал меня внимательно, не мигая глазами, и всё время улыбался от удовольствия.
— А какой край для птиц роднее? — спросил он. — Наш или тамошний?
— Конечно, наш. Тут птица и сама родится, и детей выводит, здесь у нее родина, а туда она летит только затем, чтобы не замерзнуть.
— Любопытно! — потянулся Савка. — Про что ни говори, всё любопытно. Птица таперя, человек ли… камешек ли этот взять — во всем своя умственность!.. Эх, кабы знатье, барин, что вы придете, не велел бы я нынче бабе сюда приходить… Просилась одна нынче придтить…
— Ах, сделай милость, я мешать не стану! — сказал я. — Я могу и в роще лечь…
— Ну, вот еще! Не умерла б, коли завтра пришла… Ежели б она села тут да разговоры слушала, а то ведь только слюни распустит. При ней не поговоришь толком.
— Ты Дарью ждешь? — спросил я, помолчав.
— Нет… Нынче новая просилась… Агафья Стрельчиха…
Савка произнес это своим обычным, бесстрастным, несколько глухим голосом, точно говорил о табаке или каше, я же привскочил от удивления. Стрельчиху Агафью я знал… Это была совсем еще молодая бабенка, лет 19—20, не далее как год тому назад вышедшая замуж за железнодорожного стрелочника, молодого и бравого парня. Жила она на деревне, а муж ходил ночевать к ней с линии каждую ночь.
— Плохим, брат, кончатся все эти твои бабьи истории! — вздохнул я.
— А пусть…
И, немного подумав, Савка прибавил:
— Я говорил бабам, не слушаются… Им, дурам, и горя мало!
Наступило молчание… Потемки, между тем, всё более сгущались, и предметы теряли свои контуры. Полоска за бугром совсем уже потухла, а звезды становились всё ярче, лучистее… Меланхолически-однообразная трескотня кузнечиков, дерганье коростеля и крик перепела не нарушали ночной тишины, а, напротив, придавали ей еще бoльшую монотонность. Казалось, тихо звучали и чаровали слух не птицы, не насекомые, а звезды, глядевшие на нас с неба…
Первый нарушил молчание Савка. Он медленно перевел глаза с черной Кутьки на меня и сказал:
— Вам, барин, я вижу, скучно. Давайте ужинать.
И, не дожидаясь моего согласия, он пополз на животе в шалаш, пошарил там, причем весь шалаш затрепетал, как один лист; потом он пополз назад и поставил передо мной мою водку и черепенную чашку. В чашке были печеные яйца, ржаные лепешки на сале, куски черного хлеба и еще что-то… Мы выпили из кривого, не умевшего стоять стаканчика и принялись за еду… Серая, крупная соль, грязные, сальные лепешки, упругие, как резина, яйца, но зато как всё это вкусно!