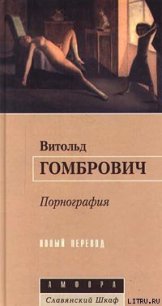Фердидурка - Гомбрович Витольд (читать полную версию книги TXT) 📗
– Возьми палку в руку. Обломай ветку. Там мы найдем парня – на полях! Яего уже вижу глазами своего воображения. Ничего парень!
Я запел:
Но не мог сделать ни шагу. Песня замерла у меня на губах. Пространство. На горизонте – корова. Земля. Вдали проплывает гусь. Огромное небо. В дымке синий горизонт. Я остановился на краю города и почувствовал, что не могу без стада, без продуктов, без человеческого среди людей. Я схватил Ментуса за руку. – Ментус, не ходи туда, вернемся, Ментус, не выходи из города. – Среди чужих кустов и трав я трясся, как лист на ветру, освобожденный от людей, а деформации, ими мне причиненные, без них казались вздорными и ничем не подтвержденными. Ментус тоже заколебался, но перспектива парня превозмогла в нем страх. – Вперед! – крикнул он, размахивая палкой. – Я один не пойду! Ты должен идти со мной! Идем, идем! – Налетел ветер, деревья зашатались, зашелестели листья, один в особенности меня поразил, на самой вершине дерева, беспардонно выставленный в пространстве. Птица взвилась ввысь. Из города вырвалась собака и понеслась по черным полям. Но Ментус храбро двинулся тропкой вдоль шоссе – я за ним, будто лодка, выплывал в открытое море. Уже исчезает берег, исчезают трубы, башни, мы одни. Тишина такая, что чуть ли не слышны холодные и скользкие камни, которые торчат из земли. Я иду и не знаю уже ничего, в ушах моих ветер шумит, ритм ходьбы меня раскачивает… Природа. Я не хочу природы, природа для меня – это люди, Ментус, возвратимся, давку в кинематографе я предпочитаю озону полей. Кто сказал, что перед лицом природы человек становится маленьким? Напротив, я увеличиваюсь и расту, я нежнею, меня словно подали обнаженного на блюде огромных полей природы во всей моей человеческой неестественности, о, куда девался мой лес, моя чаща глаз и ртов, взглядов, лиц, улыбок и гримас? Приближается иной лес – тихих, зеленых хвойных деревьев, под которыми проносится заяц и лисица крадется. А тут как назло ни одной деревеньки, дорога по полям и лесам. Не знаю, сколько часов мы вышагивали по полям, неуклюже, скованно, как по канату, – ничего другого нам и не оставалось, ибо стоять еще мучительнее, а сесть или лечь на землю влажную и холодную нельзя. Мы, правда, миновали несколько деревенек, но они будто вымерли – избы, забитые досками, пялились пустыми глазницами. Движение на шоссе совсем прекратилось. Долго ли нам еще идти безлюдьем?
– Что это значит? – проговорил Ментус. – Мор на крестьян напал? Повымерли? Если и дальше так, не найдем парня.
Наконец наткнувшись на еще одну покинутую деревню, мы стали стучать в избы. В ответ яростный лай, словно свора бешеных собак, начиная с огромных цепных псов и кончая маленькими дворняжками, точили на нас зубы. – Что такое? – заговорил Ментус. – Откуда столько собак? Почему нет мужиков? Ущипни меня, я, кажется, сплю… – Слова эти не успели еще раствориться в чистом воздухе, как из ближайшей картофельной ямы вылезла мужицкая голова и тотчас же опять пропала, когда же мы подошли поближе, из ямы послышался злобный лай. – Чертушка, – сказал Ментус. – Опять собака? Где мужик? – Мы обошли яму со всех сторон (а тем временем из изб доносился форменный вой) и выкурили мужика и бабу с четырьмя близнецами, которых она кормила одной высохшей грудью (ибо другая давно уже никуда не годилась), тявкавшими отчаянно и остервенело. Они бросились наутек, но Ментус подскочил и схватил мужика. Тот был такой изнуренный и тощий, что упал на землю и застонал: – Барчук, барчук, дык сжальтясь, дык отпуститя, дык не троньтя! – Эй, человек, – сказал Ментус, – о чем это вы? Почему вы от нас прячетесь? – При звуке слова «человек» лай в избах и за плетнями возобновился с удвоенной силой, а мужичонка стал белее платка. – И сжальтися, господин, дык не человек я, отпуститя! – Гражданин, – сказал тогда Ментус миролюбиво, – вы что, ошалели? Почему вы лаете, вы и ваша жена? У нас наилучшие намерения. – При слове «гражданин» лай раздался с утроенной силой, а баба залилась слезами. – Дык пожалейтя, господин, не гражданин он! Какой с него гражданин! Ох, батюшки мои, батюшки светы, ой доля наша, доля несчастная! Опять на нас Намерению наслали, о, цто бы это! – Друг, – сказал Ментус, – о чем речь? Мы не хотим причинить вам зла. Мы хотим вам добра. – Друг! – закричал потрясенный селянин. – Добра хоцет! – заорала селянка. – Дык мы не люди, дык мы собаки, собаки мы! Гав! Гав! – Вдруг ребенок у груди тявкнул, а баба, уверившись, что нас только двое, зарычала и укусила меня в живот. Я вырвал живот свой у бабы изо рта! Но из-за плетней уже вся деревня выскочила, лая и рыча: – Беритя яво, кум! Не бойся! Грызитя! Ату! Ату! Фас яво! Беритя Намерению! Беритя Интеллигенцию! Ату, ату, кусь, кошка, кошка! Ксс… кс… – Так, натравливая и науськивая, они медленно приближались – хуже того, для отвода глаз, а может для приманки, они вели на поводках настоящих собак, которые рвались, прыгали, роняли из пасти слюну, яростно лаяли. Положение становилось критическим, причем больше в психологическом, чем в физическом отношении. Шесть часов пополудни, темнеет, солнце за тучами, начинает моросить – а мы в незнакомой местности, под мелким холодным дождичком в окружении огромного числа крестьян, изображающих собственных собак, дабы увильнуть от всеохватывающей активности представителей городской интеллигенции. Дети их уж совершенно не умели говорить и тявкали на четвереньках, а родители их еще и подбадривали: – Цявкай, цявкай, сыноцек, Буроцек, тоды в покою оставють, цявкай, цявкай, сыноцек, Буроцек. – Впервые видел я тогда целое село человеческое, поспешно преображающееся в собаку в силу закона мимикрии и со страху перед очеловечиванием, слишком интенсивно проводимым. Но защита невозможна, ибо, если известно, как защититься от собаки и мужика по отдельности, то неизвестно, что делать с мужиками и бабами, которые рычат, воют, лают и хотят кусаться. Ментус выпускает палку из руки. Я тупо смотрю прямо перед собой на ослизлую таинственную мураву, где я вот-вот испущу дух в неестественных обстоятельствах. Прощайте, части моего тела. Прощай, моя рожа, и ты прощай, прирученная моя попочка!
И мы наверняка были бы, пожалуй, на том именно месте сожраны неведомым способом, но тут вдруг все меняется, трубит клаксон автомобиля, автомобиль въезжает в толпу, останавливается, и моя тетка, Гурлецкая, урожденная Лин, восклицает, завидя меня:
– Юзя, а ты что тут делаешь, малыш?
Не отдавая себе отчета в опасности, ничего не замечая вокруг, как это с теткой всегда бывает, она выходит, укутанная в шаль, бросается, вытянувши руки, поцеловать меня. Тетя! Тетя! Куда спрятаться! Я уж предпочел бы быть сожранным, чем пойманным на большой дороге теткой. Эта тетя знала меня с детства, она хранила в себе память о моих детских штанишках! Она видела меня, когда я в колыбельке сучил ножками. Но вот она подбегает, целует меня в лоб, крестьяне перестают лаять и разражаются смехом, вся деревня покатывается и ревет – видят, что никакой я не всесильный чиновник, а тетушкин малыш! Мистификация раскрывается. Ментус снимает шапку, а тетя сует ему тетушкину руку для поцелуя.
– Это твой товарищ, Юзя? Очень приятно.
Ментус целует тете ручку. Я целую тете руку. Тетя спрашивает, не холодно ли нам, куда мы идем, откуда, зачем, когда, с кем, почему? Я отвечаю, что мы идем на прогулку.
– На прогулку? Однако же, детки, кто вас отпустил из дому в такую сырость? Садитесь со мной, поедем к нам в Болимов. Дядюшка обрадуется.
Протестовать без толку. Тетя исключает протест. На большой дороге, под моросящим, накрапывающим дождем, в начинающем куриться тумане – мы с тетей. Садимся в автомобиль. Шофер нажимает на клаксон, автомобиль трогается, крестьяне ревут в кулак, автомобиль, нанизанный на нитку телеграфных столбов, начинает мчать – мы едем. А тетя: – Ну, что ж, Юзя, ты не радуешься, я твоя тетка двоюродная – двоюродная, моя мать была двоюродной сестрой тетки тетки твоей мамы. Мама твоя покойница! Милая Цеся! Сколько же лет я тебя не видела. После свадьбы Франи прошло четыре года. Помнишь, как ты в песочке играл – помнишь песочек? Чего от вас хотели эти люди? Ах, как я перепугалась! Нынешний народ очень сер. Всюду полно микробов, не пейте сырой воды, не берите в рот неочищенных и непомытых горячей водой овощей. Пожалуйста, покройся этой шалью, если не хочешь доставить мне неприятность, а твой приятель пусть возьмет другую шаль, но, пожалуйста, нет, нет, не надо сердиться, я твоему приятелю в матери гожусь. Мама дома уж наверняка беспокоится. – Шофер трубит. Автомобиль шумит, ветер шумит, шумит тетя, проносятся мимо столбы и деревья, лачуги, городишки, похожие на лужи, мелькают березняки, ольховники, пихтовые рощи, машина ходко катит по ухабам, мы подпрыгиваем на сиденьях. А тетя: – Феликс, не так быстро, не так быстро. Ты дядю Франю помнишь? Крыся выходит замуж. У Анульки коклюш. Геню взяли в армию. Ты так исхудал, если у тебя зубы болят, у меня есть аспирин. А как в школе – хорошо? У тебя должны быть способности к истории, ибо у твоей матери-покойницы были поразительные способности к истории. От мамы ты их унаследовал. Глаза голубые от мамы, нос отцовский, хотя подбородок как у Пифчицких. А помнишь, как ты расплакался, когда у тебя отобрали огрызок, а ты пальчик в ротик засунул и закричал: «Тя, тя, тя, тули, бьюшко, бьюшко, тут!» (Проклятая тетка!) Постой, постой, сколько же это лет тому – двадцать, двадцать восемь, да, тысяча девятьсот… конечно, я тогда ездила в Виши и купила зеленый сундучок, да, да, тебе бы сегодня было тридцать… Тридцать… да, конечно, – ровно тридцать. Деточка, накройся шалью, иначе не убережешься от сквозняка.