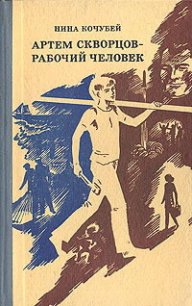Чапаев - Фурманов Дмитрий Андреевич (лучшие книги .TXT) 📗
— А отрядить лучших, — кричит, и опять обагровел.
— Нет лучших — они самые лучшие…
— А ты еще лучше самых лучших пошли! Не понимаешь, што ли, о чем я говорю?
Как же не понимать — все понимаю. Да про себя молчу: дай, мол, щипну его, потому что отчего «сволочью» бранит?
— Зачем, — говорю, — сволочью ругаешься? Я свое самолюбие имею. Виноват, так суди, в трибунал отдай, расстреляют пусть, а ругать сволочью не смей…
— Я по горячке, — говорит, — ты не все тово…
Ну, еще поседлали — теперь шестерых. Как рванули — птицами! Через час все воротились — тех выстрелами остановили…
Тут же все приказы эти драть, рвать — бросили…
— Не тронь, — говорит, — своего приказа, пускай гонют, приказы отменять не надо… А я сам переменю што надо…
Тому и конец — больше нет ничего. Как съели курицу — ни одного слова худого друг дружке не сказали… У нас, товарищ Клычков, и все так, — закончил Елань. — Шумим-шумим, а потом чай усядемся пить да беседы разводить…
— Ну, и все? — спросил, усмехнувшись, Федор.
— А то чего, — осклабился Елань. — Только на обратном пути, когда я дело все сделал, — и горы отнял, и в плен нагнал вот тех, что в дивизию на днях переправил, — едет опять.
— Здорово, — говорит, — Елань! — А сам смеется, веселый.
— Здравствуй, — говорю, — Чапаев. Как твое здоровье?
Ничего он не ответил, подступил ко мне, обнял, поцеловал три раза.
— На вот, бери, — говорит, — завоевал ты ее у меня.
Снял серебряную шашку, перекинул ко мне на плечо, стоит и молчит. А мне его, голого, даже жалко стало, — черную достал свою: на, мол, и меня помни!
Ведь когда уж наобещает — слово сдержит, ты сам его знаешь…
На этом разговор прекратился, — Еланя позвали на телефон, чего-то просили из полка. Да Федор и сам не возобновлял разговора, — видимо, все было сказано, что случилось тогда. Ничего серьезного. Ничего крупного. А в то же время под горячую руку могли натворить кучу всяких осложнений. Нянька тут нужна была постоянная и неусыпно бдительная: как только она отвернулась — уж так и знай, переломают ноги себе и другим!
С боем вошел в Трифоновку и на отдых расположился 220-й полк. Когда красноармейцы вошли в крайнюю халупу, их поразило там обилие кровавых пятен на полу. Заинтересовались, стали расспрашивать хозяина, — тот молчит, упирается, ничего не рассказывает. Тогда ему пообещали под честное слово полную безнаказанность, сами же красноармейцы взялись и просить «в случае чего» своего командира и комиссара, только рассказал бы по душе, как и что тут было. Крестьянин без дальнейших рассуждений повел их под навес и там на куче навоза, чуть разбросав с макушки, указал на что-то окровавленное, бесформенное, грязно-багровое: «Вот!» Бойцы переглянулись недоуменно, подошли ближе и в этой бесформенной, залитой кровью массе узнали человеческие тела. Сейчас же штыками, ножами, руками разбросали навозную кучу и вытащили два теплых трупа: красноармейцы.
Вдруг у одного из трупов шевельнулась рука, — державшие вздрогнули, инстинктивно дернулись назад, бросили его снова на навоз… и увидели, как за рукой согнулась нога, разогнулась, согнулась вновь… Задергалось веко, чуть приоткрылся глаз из-под черных налитых мешков, но мертвенный, оловянный блеск говорил, что мысли уже не было… Весть о страшной находке облетела весь полк, бойцы сбежались смотреть, но никто не знал, в чем дело, все терялись в догадках и предположениях. Крестьянину учинили допрос. Он не упирался, рассказал все, как было.
Два красноармейца, кашевары Интернационального полка, по ошибке попали сюда несколько часов назад, приняв Трифоновку, занятую белыми, за какую-то другую деревню, где были свои. Подъехали они к избе, спрашивают, где тут разыскать хозяйственную часть. Из избы повыскакали сидевшие там казаки, с криком набросились на опешивших кашеваров, стащили на землю и тотчас же погнали в избу. Сначала допрашивали: куда и откуда они, справлялись, где и какие стоят части, сколько в каждой части народу. Сулили красноармейцам полное помилование, если только станут рассказывать правду. Верно ли, нет ли, но что-то кашевары им говорили. Те слушали, записывали, расспрашивали дальше. Так продолжалось минут десять.
— Больше ничего не знаете? — спросил один из сидевших казаков.
— Ничего, — ответили пленные.
— А это што у вас вот тут, на шапке-то, звезда? Советская власть сидит? Сукины дети! На-ка, нацепили…
Красноармейцы стояли молча, видимо, чуяли недоброе. Среди присутствовавших настроение быстро переменилось. Пока допрашивали — не глумились, а теперь насчет «звезды» и брань поднялась, и угрозы, одного ткнули в бок:
— Кашу делал?
— Делал, — тихо ответил кашевар.
— Большевиков кормил, сволочь?
— Всех кормил, — еще тише ответил тот.
— Всех?! — вскочил казак. — Знаем мы, как всех вы кормили, подлецы! Все разорили, везде напакостили…
Он выругался безобразно, развернулся и ударил красноармейца с размаху по лицу. Хлынула из носа кровь… Только этого и ждали, как сигнал: удар по лицу развязал всем руки, вид крови привел моментально в дикое, бешеное, кровожадное состояние. Вскочившие с мест казаки начали колотить красноармейцев чем попало, сбили с ног, топтали, плевали…
Наконец один из подлецов придумал дьявольское наказание. Несчастных подняли с полу, посадили на стулья, привязали веревками и начали вырезать около шеи кусок за куском полоски кровавого тела… Вырежут — посыплют солью, вырежут — и посыплют. От нестерпимой боли страшно кричали обезумевшие красноармейцы, но крики их только раздражали остервенелых зверей. Так мучили несколько минут: резали и солили… Потом кто-то ткнул в грудь штыком, за ним другой… Но их остановили: можешь заколоть насмерть, мало помучится!.. Одного все-таки прикололи. Другой чуть дышал — это он вот теперь и умирал перед полком…
Когда из Трифоновки несколько часов назад стали белые спешно уходить, двух замученных кашеваров оттащили и спрятали в навоз…
И вся история…
Молча и мрачно выслушал полк эту ужасную повесть. Замученных положили у всех на виду и, проделав необходимое, собрались похоронить, отдавая последние почести.
В эти минуты приехали Федор с Чапаевым. Они лишь только узнали о случившемся, собрали бойцов и в коротких словах разъяснили им всю бессмысленность подобной жестокости, предупреждая, чтобы по отношению к пленным не было суровой мести.
Но велик был гнев красноармейцев, негодованию не было конца. Замученных опустили в землю, дали три залпа, разошлись… В утреннем бою ни одного из пленных не довели до штаба полка… Никакие речи, никакие уверения не сдержат в бою от мести; за кровь там платят только кровью!..
Даже и на себе Федор испытал отдаленное, но несомненное влияние этой истории: он на следующий день подписал первый смертный приговор белому офицеру.
Про случай этот, пожалуй, стоит рассказать.
Вышло все таким образом.
Приехали в Русский Кондыз к Еланю. Он в утренней атаке захватил сегодня человек восемьсот пленных. Охраны у них почти никакой.
— Будьте спокойны, не убегут, палкой их не угонишь теперь к Колчаку-то! Рады-радешеньки, что в плен попали!
— Что, Елань, опять? — спросил Федор, мотнув головой в сторону пленных.
— Так точно, — ухмыльнулся тот. — Я их было немножко штыком хотел пощупать, а они — вай-вай-вай, в плен, говорят, хотим, не тронь, ради Христа. Ну и загнали.
— А офицеры?
— И офицеры были… Да не пожелали в плен-то идти, говорят — невесело у нас…
Елань многозначительно глянул на Федора, и тот больше не стал расспрашивать.
— А может быть, и еще остались?
— Может быть, да молчат што-то.
— А солдаты разве не выдают?
— Видите ли, — пояснил Елань, — солдаты тут у них перепутались из разных частей, не знают друг дружку, пополнения какие-то подоспели…
— А ну-ка, — обратился Федор, — давай попытаем вместе… Только прежде я хочу с пленными поговорить — так, о разном, обо всем понемногу.
Когда Федор начал говорить, многие слушали не только со вниманием и интересом — мало того: они слушали просто с недоверием, с изумлением, которое написано было в выражении лиц, в растерянно остановившихся взорах. Было ясно, что многое слышат они лишь впервые, совсем того и не знали, не предполагали, не допускали того, о чем теперь рассказывал им Клычков.