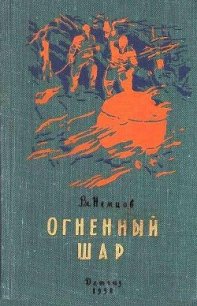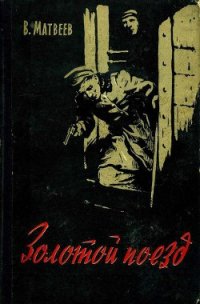Огненный ангел - Брюсов Валерий Яковлевич (бесплатная библиотека электронных книг txt) 📗
Потом подсел ко мне какой-то худо выбритый малый, в пёстром праздничном наряде, и завёл длинную речь о бедственном положении мужиков, не новую, хотя и не чуждую правды. Жаловался он на тяготу платежей, оброков, штрафов и всяких поборов, на ростовщичество, на запрещение заниматься ремеслами в деревне, поминал мятеж, который был десять лет назад, и всё это с угрозами, обращёнными чуть ли не прямо ко мне, словно я во всём и был виноват. Попытался я возразить, что сам почитаю себя скорее из мужиков и что всё, чем я владею, заработано собственными моими руками, но, конечно, мои слова пропали даром, и я уже покорно слушал, — ибо мне всё равно было, что ни слушать, — как мой случайный сотоварищ грозил рыцарям и горожанам и пожарами, и вилами, и виселицами… [cxxii]
Так как собеседника моего угощал я, то понемногу он захмелел окончательно, и я опять оказался один в общем гуле голосов. Оглядевшись, увидел я картину отвратительную: там и сям валялись тела людей, пьяных мертвецки, в углу двое колотили друг друга, вцепившись в волосы, везде стояли лужи пролитого пива и человеческой блевотины, а посреди всего этого другие ещё продолжали попойку, или бесстыдно шутили с девками, тоже пьяными и тоже безобразными, или обыгрывали один другого в грязные карты. Я вдруг удивился, почему я сижу в этом тёмном и смрадном углу, и, торопливо расплатившись, опять вышел на зимнюю стужу. Было уже сумеречно, и я безвольно побрёл домой.
Когда стучался я в нашу дверь, душа моя казалась мне пустой, как вычерпанный колодец, но в доме её тотчас наполнила строгая тишина и непобедимо повлекла меня в знакомый круг и мыслей и чувств. Я почувствовал, как с лица моего сбежали выражения, искажавшие его весь день, и как губы сложились вновь в ту тихую улыбку, которой я всегда встречал глаза Ренаты. С сердцем, бьющимся тревогою, как в первый раз, отворил я дверь к Ренате и сразу, увидев её в привычном положении, у окна, прижавшую лицо к его холодным стеклянным кружочкам, кинулся к ней и опустился перед ней на колени.
Рената не сказала мне ни слова о грубости, с какой я оттолкнул её утром, не упрекнула, что я не возвращался так долго, не захотела узнать, о чём мы говорили с Генрихом, но только, как если бы всё другое уже было ей известно, спросила:
— Рупрехт, когда ваш поединок?
Я, в ту минуту не удивившись на этот вопрос, ответил просто:
— Не знаю, решится завтра…
Рената не промолвила больше ни слова и опустила ресницы, а я остался на коленях у её ног, в неподвижности, приложив голову к подоконнику, но подняв глаза на лицо сидящей, рассматривая её любимые, милые, хотя неправильные черты, и опять погружаясь в их очарование, словно уходя в глубь бездонного омута. Глядя на эту женщину, которую ещё вчера я ласкал всеми поцелуями счастливого любовника и к руке которой сегодня не смел прикоснуться благоговейными губами, я чувствовал, как от всего её существа разливается магическая власть, замыкающая в свой предел все мои желания. Как лёгкая мякина на веялке, сероватым дымом отлетали и рассеивались все мятежные думы и все случайные соблазны дня, и определённо падало на ток души полное зерно моей любви и моей страсти. Не хотелось мне думать ни о Генрихе, ни о себе; я был тогда счастлив тем, что тихо касался рукою руки Ренаты, и тем, что минуты неслышно проходят, оставляя меня рядом с ней.
Так, в безмолвии, не смея нарушить его неосторожным словом, мог бы я остаться до утра и почёл бы себя у дверей эдема, но вдруг Рената подняла голову, коснулась рукою моих волос и промолвила нежно, как бы продолжая разговор:
— Милый Рупрехт, но ты не должен убивать его!
Я вздрогнул, вырванный из очарования, и спросил:
— Я не должен убивать графа Генриха?
Рената подтвердила свои слова:
— Да, да. Его нельзя убить. Он — светлый, он — прекрасный, я его люблю! Я перед ним виновата, — не он предо мною. Я была как лезвие, перерезавшее все его надежды. Надо перед ним преклоняться, целовать его, ублажать его. Слышишь, Рупрехт? Если ты коснёшься одного его волоса, — у него золотые волосы, — если ты уронишь одну каплю его крови, — ты больше не услышишь обо мне никогда, ничего!
Я встал с колен, скрестил руки на груди и спросил:
— Зачем же ты, Рената, не сообразила всего этого раньше? Зачем же ты заставила меня играть смешную роль в комедии с поединком? Можно ли быть легкомысленной в вопросах о жизни и смерти?
У меня дыхание прерывалось от волнения, а Рената возразила мне резко:
— Если ты вздумаешь бранить меня, я не стану слушать! Но я запрещаю тебе, слышишь ты, запрещаю касаться моего Генриха! Он — мой, и я для него хочу только счастия. Я не отдаю его тебе, я не отдам его никому в мире!..
Делая последнюю попытку, я спросил:
— Так ты забыла, как он оскорблял тебя?
Рената воскликнула:
— Как было хорошо! Как было прекрасно! Он проклинал меня! Он хотел ударить меня! Пусть бы он топтал меня! Он — милый! милый! Я люблю его!
Тогда я сказал тяжёлым голосом:
— Я исполню всё так, как ты хочешь, Рената. Но больше говорить нам не о чем. Прощай!
Я ушёл в свою комнату, бросился на постель, и мне казалось, что я загнан, как зверь, которого травят, в круг из колючей изгороди, прорвать которую у меня нет сил, и упал на землю, в ожидании, пока охотники покончат со мною. Мне хотелось или не быть, или проснуться от жизни, и я в первый раз начинал понимать, что такое искушение — поднять на себя руки. Думая о своей судьбе, я решил, что не буду более говорить с Ренатою ни о чём, а завтра выйду на поединок, опущу шпагу и буду счастлив, ощущая чуждую сталь в своей груди. И, воображая своё тело простёртым, всё в крови, на оснеженной траве, испытывал я умиление перед собою и нежную к себе жалость, как дитя, которому читают о муках святых.
Утром, однако, при трезвых лучах солнца, несколько успокоенный, я ещё раз обдумал своё положение и захотел всё-таки переговорить с Ренатою основательно и беспощадно, ибо решения её всегда были зыбки, как образы облака, и легко могли перемениться за ночь; но оказалось, что Рената, встав раньше меня, уже ушла из дому. Тогда пошёл я к Матвею, чтобы предложить ему при переговорах выбрать условия менее тягостные, так как, по какому-то врождённому чувству, продолжал заботиться о своей жизни, которая в то время казалась мне ни на что не нужной; но и Матвея не пришлось мне увидеть. Тогда, как-то обезволенный, вернулся я домой и предоставил всё трём пряхам, как человек, всё равно приговорённый к смерти, которому открывался только выбор между топором и виселицей.
После полудня пришёл Матвей, и странно было появление здорового, добродушного толстяка в наших комнатах уныния и отчаянья, странен был его раскатистый и беспечный смех среди стен, привыкших отражать звуки рыданий и вздохов. Приветствовал меня Матвей такими словами:
— Ага, брат, напрасно прикидывался ты вчера причастницей! Я ведь узнал, что ты не один здесь. Только не бойся, я для друзей — рыба, молчу, потому что никто не без греха. Нехорошо только от приятелей таиться! Я отбивать красоток не стану, — не таковский.
Когда же я прервал речь Матвея и попросил дать отчёт о переговорах, он сказал:
— Всё проехало, как корабль по маслу. Уж я друга ни выдам, волк его не съест! Пришёл от твоего графа щёголь, приседает, как девка, волосы завиты. Ну, да я отщёлкал его! Другой раз не будет похваляться своим рыцарством перед добрым бюргером! А встреча ваша сегодня же, в три часа, — что откладывать? — в лесу, близ Линденталя [cxxiii]. Там никто вам не помешает, переломай все кости молодчику!
Этот свой приговор выслушал я, не выказав никаких признаков волнения или недовольства; с большой деловитостью условился с Матвеем о разных подробностях встречи и попросил его зайти за мною, когда будет время. Проводив Матвея, я приказал Луизе подать мне обед, так как не хотел, чтобы на исход дела повлияла слабость тела, и потом, достав свою длинную шпагу, стал упражнять руку, стараясь вернуть ей нужную гибкость. За этим занятием и застала меня Рената, появившаяся в дверях, вся закутанная в плащ, словно некое привидение, и вперившая в меня вопрошающий и укоризненный взгляд.